Размеры грузовой кабины ил 76. Запрет на полеты
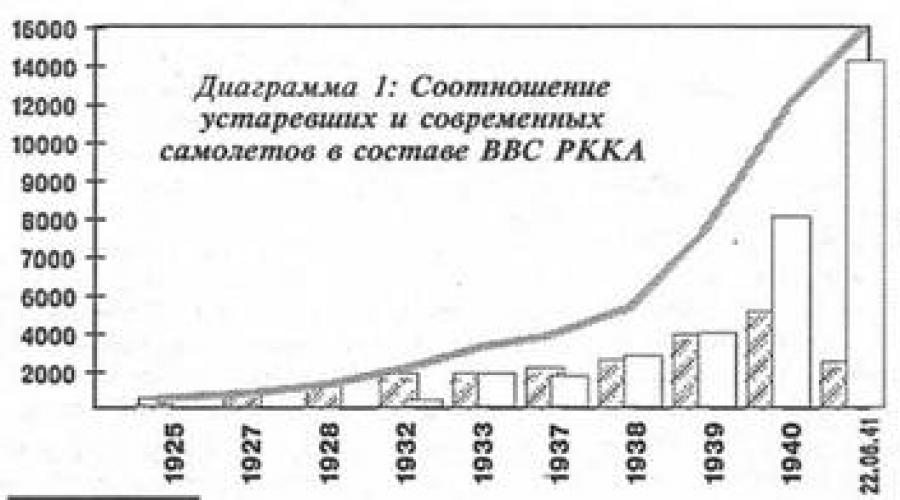
Читайте также
диаграмме 1 .







График 1


Примечания:
КОЛИЧЕСТВЕННО – КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВВС РККА НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
Григорий ГЕРАСИМОВ
Более половины столетия отделяет нас от начала Великой Отечественной войны, но до сих пор не прекращаются споры, почему Военно-воздушные силы Красной Армии потерпели жестокое поражение в 1941 году?
Советская историография одну из главных причин видела в наличии незначительного количества современной техники в авиапарке ВВС . Вместе с тем, в большинстве исследований ничего не говорится о значительном количественном превосходстве ВВС Красной Армии над противником в июне 1941 года , а ведь накануне начала боевых действий авиация РККА имела 15986 боевых самолетов, в то время как весь авиационный парк Германии насчитывал 10000 самолетов. Непосредственно в действующих против СССР войсках находилось 4000 боевых самолетов .
Почему же случилось так, что авиация, которой военно-политическое руководство страны уделяло столько внимания, в решающий момент оказалась не способной решить задачи защиты воздушных рубежей Родины? Ответ на этот вопрос можно дать, проанализировав развитие ВВС в 20-х – нач.40-х гг.
Опыт войны показал, что для этого необходимо исследовать количественно- качественные показатели, характеризующие авиацию в исследуемый период.
Архивные и опубликованные в печати документы содержат данные об авиационном парке в межвоенный период. Использование метода экспертных оценок позволяет дать комплексную количественно-качественную оценку авиации по отдельным годам межвоенного периода.
Экспертные оценки включают в себя определение соответствия, состоявших на вооружении образцов боевой техники требованиям современного боя, т.е. насколько данные типы самолетов могли эффективно вести боевые действия, противостоять средствам ПВО, выполнять боевые задачи в соответствии с их предназначением. Затем они были наложены на количество самолетов, состоявших на вооружении во второй половине 20-х-1941 гг. Результаты подсчета в графической форме представлены на диаграмме 1 .


 К 1941 г. основу бомбардировочной авиции ВВС РККА еще составляли устаревшие СБ-2 и ТБ-3
К 1941 г. основу бомбардировочной авиции ВВС РККА еще составляли устаревшие СБ-2 и ТБ-3
На диаграмме отчетливо прослеживается ряд тенденций:
Во-первых, постоянный и неуклонный количественный рост авиационной техники. Боевых самолетов в частях ВВС в 1925 г. было 515, в 1933 г. – 3649, в 1938 – 6349, в июне 1941 г. – 15986 ;
Во-вторых, до 1940 года растет количество современных самолетов в авиапарке РККА и только в 1941 года их количество снижается, и значительно – с 4324 до 2577. К началу войны число самолетов, полностью отвечающих требованиям ведения современных боевых действий, сократилось до уровня 1937 года;
В-третьих, постоянно росло количество устаревших самолетов в боевых частях ВВС. Особенно стремительным этот рост становится в предвоенные годы: 1938 г. – 3737, 1939 г. – 8368, июнь 1941 г. – 13409;
В-четвертых, начиная с конца 20-х гг. неуклонно падала доля современных самолетов: 1928 г. – 95%, 1932 г. – 85%, 1937 г. – 53%, 1940 г. – 34%, июнь 1941 г. – 16% .
Причины, обусловившие действие этих тенденций, лежали в области доктринальных взглядов и военно-технической политики советского государства и производственно-технических возможностях экономики страны.
Авиация была тем родом войск, а затем видом вооруженных сил, которому высшее военно-политическое руководство страны уделяло постоянное и неослабное внимание. Это было обусловлено, прежде всего, той значительной ролью, которую должен был сыграть военно-воздушный флот в будущей войне.
Первые советские наркомы по военным и морским делам неизменно подчеркивали большое значение авиации для будущих побед. Л.Д.Троцкий в статье, посвященной шестой годовщине Красной Армии писал: "Если труднейшей задачей первого трехлетия было создание революционной конницы, то ныне центральное место в военном строительстве занимают вопросы авиации…" . М.В. Фрунзе также считал, что "всякое государство, которое не будет обладать мощным, хорошо организованным и подготовленным воздухофлотом, неизбежно будет обречено на поражение" .
При этом важно отметить, что высшее военно-политическое руководство не приняло теорию итальянского генерала Дуэ, в соответствии с которой авиации отводилась решающая роль в достижении победы в современной войне, был взят курс на гармоничное развитие всех родов войск и видов вооруженных сил.
Этапным решением, подведшим черту под спорами о роли авиации в структуре Вооруженных Сил и перспективах ее дальнейшего развития явилось постановление ЦК ВКП (б) "О состоянии обороны СССР" от 15 июля 1929 года, в котором ставилась задача доведения качества авиации "до уровня передовых буржуазных стран". Руководствуясь этим постановлением Совет труда и обороны двумя днями позже обязал РВС СССР уточнить пятилетний план военного строительства, положив в его основу требование быть сильнее противника по трем видам вооружения, а именно по воздушному флоту, артиллерии и танкам .
13 июня 1930 г. на совместном заседании СТО И РВС СССР был утвержден уточненный план строительства РККА на первую пятилетку. Он предусматривал, в частности, превращение ВВС в мощный род войск, решающий самостоятельные оперативные задачи и обеспечивающий тесное взаимодействие с другими родами войск, форсированное строительство тяжелых бомбардировщиков, перевооружение истребительной авиации, создание качественных самолетов и моторов, завоевание стратосферы.
Таким образом, к началу 30-х годов контуры будущих ВВС были определены достаточно четко.
Дальнейшие изменения во взглядах на будущее военно-воздушных сил во многом были связаны с именем М.Н.Тухачевского. В 1930 году, будучи командующим войсками Ленинградского военного округа, он представил Наркомвоенмору К.Е.Ворошилову доклад о реорганизации Вооруженных Сил. Как отмечал Маршал Советского Союза С. Бирюзов в предисловии к избранным произведениям Тухачевского, его предложения "не только не были по достоинству оценены и поддержаны Ворошиловым и Сталиным, но и встречены враждебно. В заключении Сталина, к которому полностью присоединился Ворошилов, утверждалось, что принятие этой программы повело бы к ликвидации социалистического строительства" . Что же вызвало гнев высших партийных и военных руководителей?
Предложения М.Н. Тухачевского заключались в создании мощной, технически оснащенной армии. В начале 30-х гг. планировалось иметь: 260 стрелковых и кавалерийских дивизий, 50 дивизий АРГК и 225 батальонов ПРГК, 40 тыс. самолетов, 50 тыс. танков в строю . Через десятилетие, создав мощную индустриальную базу, напрягая все силы народа, тратя большую часть бюджета на подготовку к войне, СССР сумел создать лишь половину того военно-технического потенциала, который предлагал М.Н.Тухачевский. И.В.Сталин имел все основания назвать эту программу системой "красного милитаризма" .
Вместе с тем, значительное увеличение военно-технического потенциала страны в ходе первой пятилетки породило v Сталина надежды на создание мощной, технически оснащенной армии. Планы Тухачевского казались теперь не столь уж и несбыточными и их автор был вновь возвращен на военный Олимп. Теперь уже в качестве заместителя наркомвоенмора и начальника вооружений РККА.

Начиная с 1933 года М.Н. Тухачевский ставит перед наркомом К.Е. Ворошиловым вопрос об увеличении численности авиационного парка ВВС. В одной из докладных записок он пишет: "Общая оценка возможного развития ВВС наших врагов говорит о необходимости для нашей страны иметь 15000 действующих самолетов, – это усиление нельзя растягивать, а осуществить в 1934 – 1935". Его поддерживал Г.К. Орджоникидзе, который гарантировал, что промышленность сделает все, что в ее силах . На докладе Ворошилов наложил резолюцию: "Америки" не вижу. Все те же отвлеченные "прожекты" 23.11.1933 г." .
Не находя поддержки у наркома, М.Н. Тухачевский пытался найти содействие у наиболее авторитетных военных деятелей Красной Армии и нашел его в лице И.П. Уборевича. В совместной записке наркомвоенмору, они на основе опыта учений и маневров, показавших огромные боевые возможности современной авиации, требуют срочного наращивания сил ВВС:
"Современная авиация может на длительный срок сорвать железнодорожные перевозки, уничтожить склады боеприпасов, сорвать мобилизацию и сосредоточение войск. Та сторона, которая не будет готова к разгрому авиационных баз противника, к дезорганизации систематическими воздушными нападениями его железнодорожного транспорта, к нарушению его мобилизации и сосредоточения многочисленными авиадесантами, к уничтожению его складов горючего и боеприпасов,… сама рискует подвергнуться поражению" . Исходя из этого, Тухачевский и Уборевич считали, что основным решающим звеном в развитии РККА в ближайшие годы должно являться увеличение численности авиации до 15 тыс. действующих самолетов в 1934 – 1935 гг .
Против какого же противника нужны были Тухачевскому 15 тысяч боевых самолетов? В оперативных планах середины 30-х гг. наиболее вероятным противником являлась Польша, которую в случае войны могла поддержать Германия. Оба этих государства, по подсчетам Тухачевского, в это время могли выставить 2600 самолетов . Определенно, для того, чтобы их уничтожить полтора десятка тысяч самолетов слишком много. Может быть они были нужны для того, чтобы обеспечить гарантированную безопасность страны на случай любой широкомасштабной войны?
Да, они давали такую гарантию. Но что было бы, если бы война не началась в середине 30-х гг. или началась позже, когда вся эта авиационная армада морально устареет? Тогда армию ждала катастрофа. И эта катастрофа случилась в 1941 году. Она была запланирована несвоевременным развертыванием самых многочисленных в мире военно-воздушных сил в середине 30-х гг., когда реальной угрозы войны для Советского Союза не было. Все европейские страны имели незначительные военно-воздушные силы. В 1934 году потенциальные агрессоры, среди которых числились Германия, Япония и Италия, имели сравнительно небольшие авиационные флоты – 620, 2050, 931 боевых самолетов соответственно . Другие европейские государства: Франция, Англия также не содержали больших ВВС, но имели промышленную базу для их развертывания, постоянно проводили НИОКР, для того, чтобы в случае войны начать массовое производство современных самолетов.
Можно ли всю вину за несвоевременное развертывание многочисленных ВВС возложить только на М.Н. Тухачевского и поддержавших его И.П. Уборевича, И.А. Халепского? Нет, нельзя. Они являлись лишь исполнителями воли И.В.Сталина, назначившего их на высокие должности, поскольку были способны талантливо, искренне и добросовестно проводить политику массированного технического оснащения Красной Армии. О том, что это была принципиальная политика Сталина свидетельствует и тот факт, что она не претерпела существенных изменений после уничтожения в 1937-1938 гг. тех лиц, которые ее осуществляли.
К.Е. Ворошилов был против этих людей и против такого осуществления военно-технической политики. Он был сторонником более умеренных и, видимо, реалистичных решений, но Сталин с ним не посчитался. Сам же Ворошилов, чтобы не потерять свой пост, предпочел смолчать, смириться и работать с людьми, взгляды которых не разделял.
Насколько была экономически эффективна проводимая военно-техническая политика того времени? Ответ на этот вопрос дает диаграмма 2 . На ней видно, что расходы на закупки авиатехники были несопоставимо больше, чем расходы на боевую подготовку, приобретение опытных образцов вооружения и техники для ВВС и даже с расходами на все НИОКР в смете РККА. Например, если в 1930 году на закупки авиатехники выделялось 84 млн. руб., то на боевую подготовку ВВС всего 252 тыс. руб., на заказы опытного вооружения и техники – 2 млн., на все НИОКР проводимые Красной Армией – 11 млн. руб. В 1935 году эти цифры составляли соответственно – 756, 5,7, 8,6 и 43 млн. руб. В 1940 году на авиатехнику тратилось 7,7 млрд. руб, на боевую подготовку ВВС – 16 млн. руб., НИОКР по линии РККА – 414 млн. руб. В этом же году все расходы на образование в СССР составляли 2 млрд. руб., на науку – 0,3 млрд. руб .
Анализ расходов на закупки техники, боевую подготовку ВВС, НИОКР, показывает, что огромные средства тратились на производство и поддержание в боеготовом состоянии огромного парка самолетов, большинство из которых в предвоенный период уже были устаревшими. В то же время непропорционально мало средств расходывалось на создание новых образцов техники, боевую подготовку.
Перераспределение финансов в пользу создания перспективных самолетов и более качественную подготовку летчиков дало бы больший эффект, нежели содержание самой большой в мире армады устаревших воздушных машин.
Другим важным комплексом обстоятельств, обусловивших то, что ВВС подошли к началу войны с самыми плохими показателями качественного состояния авиапарка, явились причины технического порядка. Они были обусловлены состоянием и возможностями экономики, уровнем опытно-конструкторских разработок и способностью промышленности к их освоению.

 Современные бомбардировщики – Пе-2 и Пе-8 к 1941 г только начали поступать в боевые части и фактически еще не были освоены личным составом
Современные бомбардировщики – Пе-2 и Пе-8 к 1941 г только начали поступать в боевые части и фактически еще не были освоены личным составом

График 1 наглядно свидетельствует о том, что наиболее современным парком машин Воздушный флот РККА обладал в 20-е гг. Это объясняется тем, что темпы совершенствования боевых самолетов после окончания первой мировой войны были не столь быстрыми, как в годы войны или в тридцатые годы. Основу авиапарка большинства европейских стран составляли самолеты первой мировой войны. Такие же самолеты состояли на вооружении Красного Воздушного флота.
В начале 20-х гг. даже современные самолеты находились в самом жалком техническом состоянии. 7 ноября 1921 года М.В.Фрунзе писал о Воздушном Флоте: "Такового у нас не имеется, ибо нельзя же серьезно считать флотом те несколько сотен аппаратов, которые среди наших летчиков известны под названием «гробов". Только исключительная доблесть и мужество нашего летного состава позволяют пользоваться ими" .
В тезисах доклада в Реввоенсовет СССР начальника Воздушных сил СССР А.П.Розенгольца от 9 мая 1924 года определялись основные условия развития Воздушного флота в СССР: организация внутри страны самолето- авиа-конструкторских производств, подготовка наземного оборудования и личного состава авиации, развитие авиационных наук и конструкторских работ .
Впервые вопрос об организации авиационной промышленности высшее военное руководство страны обсуждало в сентябре 1924 года, а в октябре этого же года была разработана 3-х летняя программа авиастроения . К сожалению, Главное управление военной промышленности (ГУВП), которое должно было осуществлять выполнение программы, не обладало для этого должной производственной базой и возможностями, поэтому уже в начале следующего года при обсуждении итогов выполнения производственной программы Реввоенсовет констатировал ее значительное недовыполнение. Был поставлен 41 боевой самолет и 132 учебных, вместо 254 и 144 соответственно. Моторов поставлено 70 вместо 200. Было принято постановление, обязывающее ГУВП поставить все самолеты и моторы в соответствии с заказом .
Из-за слабости отечественной авиационной промышленности в начале двадцатых годов военное руководство в лице Реввоенсовета СССР вынуждено было обратиться к закупкам авиатехники за рубежом и концессионному строительству самолетов. Иностранными партнерами, с которыми шли переговоры об организации строительства самолетов и моторов, были немецкие фирмы "Юнкере", "Фоккер", "ВМВ" .
Наибольшее развитие получило сотрудничество с фирмой "Юнкере", обязавшейся создать на заводе в Москве современный цельнометаллический самолет. Реально фирма смогла сделать только 100 самолетов, уступавших по качеству иностранным аналогам. Вместе с тем, работа "Юнкерса" имела большое значение для развития советского авиастроения. В частности, в записке, направленной К.Е.Ворошиловым и Ф.Э.Дзержинским в Политбюро ЦК, отмечалось: "Нами извлечены все чертежи и данные, как о строящихся в Филях самолетах, так и об организации производства. Этот материал нами положен в основу организации собственного производства металлических самолетов" .
В 1927-1928 гг. удалось наладить массовый выпуск самолетов, но, как было подчеркнуто в решении Реввоенсовета СССР, количественное расширение производства не сопровождалось качественным улучшением самолетов и моторов. В связи с этим РВС СССР считал, что авиация должна быть полностью обеспечена качественной отечественной продукцией . На заседании в 1928 году Реввоенсовет констатировал: "Уровень техники, степень обеспеченности и состояние авиации, кроме истребительной признать удовлетворительным, а истребительной авиации – угрожающим" . Выход нашли в срочной закупке 100 истребителей за границей с последующей организацией серийного производства по лицензии наиболее современного заграничного истребителя .
 ББ-22 Яковлева – устарел раньше, чем вылечился от "детских болезней"
ББ-22 Яковлева – устарел раньше, чем вылечился от "детских болезней"
Борьба за независимость отечественного авиастроения от заграницы продолжалась вплоть до начала 30-х гг., в связи с чем в конце 1930 г. Реввоенсоветом был определен детальный перечень мероприятий, необходимых для обеспечения производства в СССР всех агрегатов и деталей к самолетам и авиамоторам .
Открытыми оставались вопросы производства моторов, вооружения самолетов. В принятом в январе 1929 г. Постановлении РВС СССР "О состоянии авиационного вооружения" было признано, что положение с вооружением ВВС весьма незначительно продвинулось вперед. Особенно это касалось пулеметов и производства авиабомб .
Важным рубежом в деятельности по обеспечению авиации боевой техникой и вооружением явилось принятие в январе 1929 года системы воздушного флота РККА и пятилетнего плана опытного строительства. Основное внимание в них уделялось созданию мощной бомбардировочной и истребительной авиации . В принятом 15 июля 1929 года постановлении ЦК ВКП/б/ "О состоянии обороны СССР" указывалось: "…важнейшей задачей на ближайшие годы в строительстве красной авиации является скорейшее доведение ее качества до уровня передовых буржуазных стран, и всеми силами следует насаждать, культивировать и развивать свои, советские научно-конструкторские силы, особенно в моторостроении" . Наличие к этому времени относительно налаженной авиапромышленности обеспечивало выполнение планов поставок.
В 1933 году в докладе начальника ВВС РККА давалась оценка технической оснащенности воздушного флота: "Наш воздушный флот, будучи самым мощным в мире, по качествам своей материальной части отстает от ВВС передовых капиталистических стран, а по истребительной авиации уступает даже Польше и Японии" .
30-е годы, особенно их вторая половина, являлись "золотым веком" военной авиации, когда развитие неимоверно ускорилось. Моральное устаревание техники происходило порой за 3-4 года, иногда за год! Например, Су-2 и Як-2 (Як-4) не считались в 1941 г. современными самолетами, хотя их производство велось не более года-двух. Реально устаревшим был истребитель И-153 "Чайка", который был поставлен в серию в 1939 г. и продолжал производиться в небольших количествах в 1941 г.
Советский Союз действительно запоздал с разработкой боевых самолетов которые принято считать "современными" в начале Великой Отечественной войны. У немцев серийный Bf 109 появился в 1936 г., у англичан "Харрикейн" и "Спитфайр" – в 1937 г. Наши же основные истребители (Як-1, МиГ- 3, ЛаГГ-3) были запущены в производство только в 1940 г., поскольку надежды на более ранние машины (И-180) не оправдались. Реально массовое производство современных самолетов удалось развернуть только в 1941 г. Значительную роль в этом сыграли и насыщенность ВВС морально устаревшими, но еще вполне технически исправными самолетами, мешавшими перевооружению и репрессии конструкторских кадров.
Анализ состояния авиатехники показывает, что важнейшей причиной, тормозившей создание современной авиации в СССР, было отсутствие качественных отечественных моторов, соответствующих мировому уровню. Особенно отчетливо это проявилось в конце 30- х – начале 40-х гг. Накануне войны мы имели:
– рядный V-образный М-105 мощностью 1100 л.с. (воспроизведение французской "Испано-Сюиэы" с форсированием) , в связи с необходимостью доработки он поступил на снабжение только во второй половине 1940 г., а реально стал доведенным не ранее середины 1941 г. К этому времени у немцев считался стандартным истребитель Dfl09F с мотором DB 601N мощностью около 1350 л.с., что дало противнику заметное превосходство, поскольку при приблизительно одинаковой массе истребителей нагрузка на мощность у немцев стала меньше.
– рядный V-образный АМ-35А конструкции Микулина, мощностью 1350 л.с., единственный мотор полностью отечественной разработки. Он отличался очень большой массой – 850 кг, в то время как аналогичные по мощности английские и немецкие двигатели весили не более 700 кг. В этом, наряду со слабым вооружением и избыточной высотностью, заключалась причина относительно небольших успехов МиГ-3.
– двухрядный звездообразный М-88Б (воспроизведение французского "Мистраль-Мажор" с форсированием и двух- скоростным нагнетателем) мощностью 1100 л.с. Реально этот двигатель был запущен в производство в 1941 г., в связи с чем на первом этапе отличался невысокой надежностью, что особенно плохо сказывалось в дальнебомбарди- ровочной авиации, поскольку отказы над территорией противника грозили вынужденной посадкой и потерей техники и экипажа. По своим данным он относился к устаревшему поколению моторов. Современные "звезды" в начале 40-х гг. вышли на уровень мощности в 1500-1700 л.с.
– однорядные звездообразные моторы М-62 и М-63 (воспроизведение американских "Райтов") мощностью 1000- 1100 л.с., морально устаревшие, хотя и имели неплохие удельные характеристики, но были неприменимы для современных истребителей (ими оснащались И-16 и И-153), в годы войны они использовались на транспортных машинах, например на Ли-2.
– единственным по-настоящему передовым мотором, имевшимся на вооружении в 1941 г., был, созданный по "мотивам" французских моторов, швецовский М-82 мощностью 1700 л.с. Он производился серийно, но не был в 1941 г. установлен на какой-либо серийный самолет, кроме небольшой партии Су- 2. В связи с тем, что М-82 был новой конструкцией, у него была масса недостатков, в том числе и существенных. Довести двигатель удалось только к 1943 г. с созданием модификации М-82ФН.
Таким образом, важной причиной отставания советской военной авиации, проявившейся в конце 30-х гг., было запаздывание с разработкой нового поколения моторов. Оно было заложено самой логикой развития нового поколения двигателей, связанной в тот период времени в основном с воспроизведением импортных американских и французских моторов, которые на момент покупки уже не были вполне современными, а с учетом времени на освоение, доводку и пр. – обусловили качественное отставание от других стран, особенно от немцев и англичан.

Если же смотреть еще глубже, то отставание СССР было как бы эшелонировано по нескольким уровням: самолеты (1-й уровень); моторы (2-й уровень); технологии (3-й уровень); станкостроение (4-й уровень); образование и культура производства (5-й уровень), и т.д.
Военно-политическое руководство страны хорошо видело необходимость вложения средств в проблемы 1-го уровня, и это обусловило создание множества авиационных КБ. В значительной степени осознавались проблемы 2-го уровня. Многое делалось для развития образования. Меньше внимания уделялось воспитанию культуры производства – для ее выработки нужны по-видимо- му значительно большие сроки. Технологии в то время были почти полностью заимствованные, что было обусловлено слабостью фундаментальной науки, отсутствием ученых. Станкостроение развивалось бурными темпами, но станки были примитивными, недоставало точного, высокопроизводительного оборудования, это привело к тому, что целые авиазаводы, например, казанский №124, пришлось укомплектовывать американским оборудованием.
Как показывает исторический опыт, настоящий, длительный, а не одномоментный, из последних сил, успех обеспечивается уровнями 3, 4, 5-х порядков. Условий для их развития в 30-е гг. в СССР еще не было.
Создание в 1943-1944 гг. истребителей, составивших серьезную конкуренцию немецким, и, в частности, Як-3 и Ла-7 стало возможным за счет успехов в области аэродинамики, предельного сокращения массы наших машин, в том числе и за счет вооружения и запаса топлива, а также выжимания из наших моторов, последних "соков". Благодаря этому наши двигатели М-105ПФ2 и АШ-82ФН по удельным характеристикам приблизились к немецким, но по- прежнему уступали им в показателях абсолютных. DB 605 на Bf 109G имел мощность 1650 л.с., в то время, как М- 105ПФ2 на Як-3 – только 1280, но советский самолет был легче на 500-600 кг. Мотор BMW 801J, устанавливавшийся на FW 190А-9, был примерно на 150 л.с. мощнее нашего АШ-82ФН, но Ла- 7 опять-таки был несколько легче немецкого самолета,
Проведенный анализ технического состояния ВВС РККА свидетельствует о наличии целого ряда объективных и субъективных причин, обусловивших снижение доли современных боевых самолетов в авиационном парке воздушного флота страны в предвоенный период.
Современные самолеты накануне войны были "сырыми" машинами и это подтверждает анализ технического состояния авиапарка ВВС в 30-е – нач. 40-х гг.
На графике 2 прослеживаются следующие тенденции:
– Общее повышение доли исправной авиационной техники;
– Повышение доли исправных самолетов устаревших типов;
– Снижение, непосредственно перед войной, доли исправной современной боевой техники.
Странным и непонятным, на первый взгляд, является снижение доли исправных современных самолетов. Такое случилось всего один раз в истории отечественной авиации в межвоенный период и ясно, что это событие не является случайным. Эти самолеты создавались в спешке, их доводкой занимались непосредственно в войсках, поэтому среди них доля неисправных самолетов превосходит аналогичный показатель для устаревшей боевой техники. Конечно, надо учитывать и тот факт, что устаревшая техника была выпущена всего 1-3 года назад и устарела лишь морально, но все равно ее техническое состояние было лучше, чем у новых самолетов, только что вышедших из завода.
Сухие цифры, характеризующие техническое состояние боеспособности армии, наполняются живым содержанием только при их сравнении с аналогичными показателями конкретного противника, с которым придется вести реальные боевые Ддействия. К сожалению, полных данных по качественному состоянию немецкой авиации нет. Но можно сделать приблизительный сравнительный анализ, исходя из имеющихся цифр.
Советская авиация имела в своем составе 16% современных типов боевых самолетов, примерно столько же имели Иракские ВВС в период проведения многонациональными силами операции "Буря в пустыне", и не смогли противостоять противнику. Почему советские ВВС в примерно аналогичных условиях продолжали бороться и в конце концов завоевали господство в воздухе?
Прежде всего, благодаря огромному запасу авиационной техники и своему экономическому потенциалу. В составе группировки немецких войск, напавшей на СССР, было 4000 боевых самолетов. Им противостояли 7469 самолетов на Западном ТВД и 2311 в составе авиации АГК, в которых находилось 2061 самолет современных типов , что составляло 51 % от общего числа немецких самолетов, если же учесть все современные машины ВВС РККА, то эта цифра вырастет до 64%, а это уже может свидетельствовать, если не о равенстве сил, то по крайней мере о сопоставимом количественно-качественном потенциале военно-воздушных сил обеих сторон.
При этом надо учитывать, что успех боевых действий в воздухе зависел не только от тактико-технических данных самолетов, но и уровня подготовленности пилотов. Конечно, одно дело – попытка воевать на каком-нибудь И-5 против Bf 109F-2, и совсем другое – бой грамотного пилота на И-16 тип 24 выпуска 1940 г. против Bf 109Е, особенно в группе. И война давала примеры такого рода. Например, дважды Герой Советского Союза Б.Ф. Сафонов именно на И-16 совершил 224 боевых вылета, в которых лично сбил 30 самолетов противника и 3 в групповых боях . Это говорит, что успех во многом зависел от тактики боевого применения, которая у нас, в 1941 г. в целом была, безусловно, хуже отработана, чем у немцев, особенно для самолетов современных типов.
Степень освоения "ишаков" в начале войны была гораздо выше, чем МиГов, не говоря уже о ЛаГГах и Яках, которые считались находящимися в опытной эксплуатации и не прошедшими госиспытаний. Вполне вероятно, что с точки зрения боевой эффективности 2065 И-16, имевшихся на западном ТВД, создавали для немцев гораздо большую угрозу, чем 845 "современных" МиГов.
Основными причинами, обусловившими наличие большого числа самолетов устаревших конструкций и незначительную долю современной авиатехники в авиапарке ВВС РККА в начале войны являлись: неэффективная, затратная военно-техническая политика, нацеленная на создание самых многочисленных в мире ВВС без учета реальной военной угрозы; создание и внедрение в массовое производство образцов вооружения, обреченных на быстрое моральное устаревание; и запаздывание на этой основе с созданием современных типов авиации в предвоенный период.
3 Боевой и численный состав ВС СССР в период Великой Отечественной войны 11941 – 1945 г. – Сб. ст. №1.М.,ИВИ. 1994; История второй мировой войны 1939 -1945. Т.З. М. Воениздат. 1974. С.327-328
4 Рассчитано по: РГВА ф.4, on. 14, д.2678, л.204; д.2396; ф.31811, оп.2. д.602, л. 14; д.бб4 л.3; ф.29, оп.46, д.271 л.3; ф.29, оп.26, д, 1, л.65; д.42, л.84; Боевой и численный состав ВС СССР в период Великой Отечественной войны /1941 -1945 г. – Сб. ст. №l.M.,1994.
5 РГВА, ф.4, оп. 14, д.30, л.20.
6 Фрунзе М.В. Собр. соч. Т.З. М.,1929. С.158.
7 История второй мировой войны 1939 -1945. T.I. М.,1973. С.258.
8 М.Н,Тухачевский. Избранные произведения. М.,1964. С. 12.
9 РГВА, ф.33987, оп.3, л 155, л.57.
10 Бирюзов С. Предисловие II М.Н.Тухачевский. Избранные произведения. T.I. М.,1964. С. 12.
11 РГВА, ф.22987, оп.3, д.400, л, 112.
13 М.Н.Тухачевский. Избранные произведения. Т.1. М.,1964. С. 13.
15 РГВА, ф.22987, оп.З, д.400, л. 178.
16 История отечественной артиллерии. Т.Ш. Кн.8. С.201
17 Составлено по: РГВА, ф.51, оп.2, д.54, л.74; д.448, л.5, д.527, л.544.
18 РГВА, ф.51, оп.2, д.54, л.74; д.448, л.5, д.527, л.544; Народное хозяйство СССР за 70 лет. М.,1987. С.632.
19 Фрунзе М.В. Избранные произведении. М.,1957. Т.2. С.25.
20 РГВА, ф. 4, оп 7., д. 6, л. 461.
21 Согласно пояснительной записке к пиану, в его основу «положена постепенность развития в соответствии с нормальным темпом развития людских и материальных ресурсов. Общая сумма действующих самолетов увеличивается на 33% от цифры предыдущего года. Для сравнения: ежегодный прирост действующих самолетов в США – 8%, Англии -10%, Франции -15%, Румынии -18%. Тем не менее, в докладе начальника УВВС РККА говорилось, что принятый РВС СССР трехлетний план развития ВВС на 1925-1928 гг. является минимальным для обеспечения воздушной обороны СССР. РГВА, ф.4, оп.1, д. 61, л.538; ф.33987, оп.З, д.210, л. 10.
22 РГВА, ф.4, оп. 18, д.7, л.230; д.8, л. 10; д.9, л. 132.
23 Вопросы сотрудничества с фирмой "Юнкере" обсуждались на заседаниях РВС СССР 5 раз, а с "Фоккер" – 4 раза. Обсуждался также вопрос о заключении соглашения по оказанию технической помощи фирмой БМВ в производстве моторов. Не все члены Реввоенсовета были сторонниками такого сотрудничества. РГВА, ф.4, on. 18, д.7, л. 128,182,219,230,238; д.8, л. 15,16; д.9, л.232,224;д. И, л.268. Также см.: Мишанов С.А., Захаров В.В. Военное сотрудничество СССР и Германии. М.,1991. С.54-56.
24 Цит. по: Мишанов С. А., Захаров В.В. Военное сотрудничество СССР и Германии. 1921 – 1933 гг. IАнализ западной историографии. М.,1991. С.56.
25 РГВА, ф.4, оп. 18, д. 15, л.25.
26 РГВА, ф.4, оп.1, д.707, л.276.
27 РГВА, ф.4, оп.1, 0.707, л.276.
28 РГВА, ф.4, оп. 18, д, 19, л.418.
29 РГВА, ф.4, оп.2, д.484, л.9.
30 РГВА, ф.4, оп. 18, д. 19, л.2.
31 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. М.,1981. С.259.
32 РГВА, ф.33987, оп.3, д.485, л.58.
33 Боевой и численный состав ВС СССР в период Великой Отечественной войны /1941 -1945 г. Ст. сб. №1.М.,1994.С.244-245.
34 Туляки Герои Советского Союза. Тула. 1967. С.335-336.
Александр Н.Медведь, Дмитрий Б.Хазанов/ Москва Фото из архива авторов
В феврале 1939 г. на московском Центральном аэродроме им. Фрунзе появился красивый двухмоторный двух-килевой моноплан. Красно-белая окраска и стремительные формы невольно привлекали к нему внимание. Опытному глазу было ясно, что самолет может показать очень высокие летные качества. Даже не зная марки машины, никто не сомневался в том, что она спроектирована в ОКБ А.С.Яковлева - молодого, но довольно известного в то время авиаконструктора. Он был, вероятно, первым из советских конструкторов, обеспечившим узнаваемость своих опытных машин. Отлично отделанные, тщательно окрашенные и отполированные до блеска, все они несли на рулях направления фирменные бело-красные полосы.
Заводские испытания машины, получившей внутрифирменное обозначение "самолет 22", проводил Юлиан Янович Пионтковский - один из опытнейших летчиков в стране, ставший вскоре шеф-пилотом ОКБ Яковлева. Ведущим инженером машины от ОКБ был назначен Евгений Георгиевич Адлер. Небольшие фрагменты его интереснейших воспоминаний о том времени, об атмосфере, царившей в стране и на фирме, частично использованы при написании настоящей статьи.
В ожидании войны
Парижская авиационная выставка 1938 г. оказалась рекордной по количеству представленных боевых самолетов нового поколения. Одной из идей, получивших в то время большую популярность, стала концепция двухмоторного скоростного многоцелевого самолетамоноплана. Такая машина, по взглядам авиационных специалистов, могла выполнять функции истребителя сопровождения, ближнего разведчика и легкого бомбардировщика. "Крен" в сторону предпочтения истребительных или разведывательно-бомбардировочных качеств в значительной мере определял облик создаваемых машин. Так, во Франции были построены самолеты "Потез 63" и "Бреге 691", впоследствии ставшие серийными. Эти машины являлись скорее бомбардировщикам и штурмовиками, чем истребителями. Немцы и поляки наиболее важными чертами "многоцелевиков" сочли их истребительные свойства: так появились "Фокке-Вульф" FW187, "Мессершмитт" Bf 110 и Р71"Волк". В некоторых машинах, например в голландском "Фоккере" G.1, конструкторы старались получить "полностью сбалансированный" вариант реализации концепции.
Нельзя сказать, чтобы все эти изыски явились откровением для советских авиаконструкторов. В нашей стране еще в начале 30-х летали опытные многоцелевые истребители МИ-3 и ДИП конструкции А.Н.Туполева. В середине десятилетия пришел черед "летающих крейсеров" П.И.Гроховского и Д.П.Григоровича. Позднее в ОКБ Н.Н.Поликарпова были разроботаны семь вариантов машины, ставшей известной под именем ВИТ. На этапе эскизного проектирования прорабатывались модификации разведчика, пушечного истребителя, противокорабельного самолета. Развитием ВИТа явился скоростной пикирующий бомбардировщик СПБ, выпущенный малой серией в начале 1940 г.

Учебно-тренировочный самолет УТ-3
В ОКБ Яковлева, до 1938 г. занимавшемся исключительно легкомоторной авиацией, идею создания скоростного двухмоторного многоцелевого самолета выдвинул Лион Шехтер. Главной "изюминкой" машины он считал получение наибольшей скорости полета, которую должны были обеспечить минимальные размеры самолета и два двигателя М-103 мощностью по 960 л.с. При проектной полетной массе 4000 кг удельная нагрузка на мощность получалась рекордно малой - всего 2,05 кг/л.с. (для сравнения: у отечественного истребителя И-16 тип 24 - 2,09 кг/л.с., а у немецкого Bf 109E-3 - 2,44 кг/л.с.). Площадь крыла новой машины в эскизном проекте определялась равной 27 м2, что давало довольно большую по тем временам удельную нагрузку на крыло - 148 кг/м2. С целью минимизации массы конструкции решили цельнодеревянное крыло с размахом 13,5 м сделать неразъемным, использовать ферменный (из стальных труб) фюзеляж, т.е. применить уже хорошо проверенные на легких яковлевских самолетах решения. Интересной новинкой, уменьшавшей лобовое сопротивление, стало расположение водора-диаторов в задней части мотогондол. С этой же целью кабину штурмана вписали в контур фюзеляжа. Ведение огня из его пулемета становилось возможным только после опускания части гаргрота и приоткрытия фонаря. За счет указанных выше мероприятий конструкторы планировали получить огромную по тем временам максимальную скорость - 600 км/ч. Запаса топлива в двух фюзеляжных баках должно было хватить на 800 км.
Вооружение бомбардировщика предусматривалось очень легким. Его общая масса не должна была превышать 350 кг, считая и два ШКАСа с боекомплектом (один - неподвижный в носу фюзеляжа, второй - у штурмана на полутурели). На разведчике планировали смонтировать фотоаппарат и предусмотреть небольшой отсек для осветительных бомб, а на истребителе взамен переднего пулемета установить пушку ШВАК. Первоначально во всех трех вариантах машина проектировалась двухместной с расположением штурмана-стрелка в отдельной кабине в средней части фюзеляжа.

Опытный "самолет 22"
Приступая к работе над новым самолетом, в ОКБ Яковлева в значительной мере использовали опыт создания двухмоторного УТ-3, предназначенного для тренировок экипажей бомбардировщиков. Таким образом, переход к скоростному боевому самолету вполне логично вытекал из предшествовавших работ коллектива, и упрекать Яковлева в желании "пустить пыль в глаза начальству", создав лишь рекламную машину, по всей видимости, некорректно.
От эскиза - к рабочему проекту
Главный конструктор ОКБ-115 Александр Сергеевич Яковлев имел обыкновение приходить на работу часа на 2-3 позже своих сотрудников, зато и оставался подольше. В результате начальники подразделений тоже засиживались и задерживали подчиненных. Сверхурочная работа в ОКБ была нормой. Ежедневные обходы конструкторских отделов и цехов выявляли еще одну особенность Яковлева-руководителя: его чрезвычайную требовательность, порой доходившую до грубости: "Вы преступный тип, Вас надо отдать под суд… Что Вы заладили, как баран…". Феноменальная память и наблюдательность нередко помогали ему "ставить на место" зарвавшихся "искателей справедливости": "Вы тут обвиняете других, а сами даже своих ботинок не можете почистить…".
Чутье руководителя, вынужденного принимать важнейшие решения в очень не простых условиях, у Александра Сергеевича, несомненно, имелось. В большинстве случаев Яковлев умел делать правильный выбор из нескольких альтернатив. "Главного конструктора одновременно уважали и побаивались", -вспоминал Адлер. Напряженные усилия всего коллектива, подстегиваемые неукротимой волей и обостренным самолюбием его руководителя, обеспечили быстрое продвижение работ над новой машиной. ВВС пока не подозревали о ее разработке и, естественно, не выдвигали никаких требований к облику самолета. Его полностью определял Яковлев с ближайшими помощниками.
Осенью 1938 г. приоритеты прорабатываемым вариантам задавались в следующем порядке: истребитель с пушечным вооружением, ближний разведчик и скоростной бомбардировщик. Наступательное вооружение истребителя решено было усилить: теперь оно состояло из двух подфюзеляжных пушек и трех пулеметов ШКАС (один в носовом обтекателе и по одному в развале цилиндров каждого мотора с ведением огня через полые валы редукторов). Экипаж истребителя уменьшили до одного пилота.
Вооружение разведчика должно было включать 8 авиабомб калибра 20 кг в фюзеляжном бомбоотсеке, один подвижный и один неподвижный (в носке фюзеляжа) пулемет ШКАС. Аэрофотоаппарат АФА-19 решили разместить позади фюзеляжного бензобака, под радиостанцией "Двина". В задней кабине предусматривалась специальная "лежанка" с иллюминатором в полу для ведения визуального наблюдения.
Бомбардировщик отличался отсутствием фото- и радиооборудования и уменьшенным запасом горючего. За счет этого, по проекту, он был способен нести шесть 100-кг фугасных бомб, подвешенных в фюзеляже вертикально.
Все варианты самолета планировалось дооснастить четырьмя крыльевыми бензобаками: по одному с внутренней и наружной стороны каждой мотогондолы. Интересно, что днища баков должны были служить нижней обшивкой крыла и воспринимать крутящий момент. Общей емкости баков разведварианту должно было хватить на 1600 км. Среднюю часть фюзеляжа конструкторы решили сделать без разъема с крылом, поэтому она стала деревянной.
Увеличение дальности полета и мощи вооружения закономерным образом привело к увеличению полетной массы самолета на целую тонну (до 5000 кг, масса пустого - 3700 кг). Пришлось немного увеличить площадь (до 29,4 м2) и размах крыла (до 14 м), но удельная нагрузка на него возросла и стала по тогдашним понятиям чрезмерной - 170 кг/м2. Недаром впоследствии пилоты отмечали, что с выключенными моторами "машина планирует камнем".

Опытный "самолет 22"
В январе 1939 г. опытный экземпляр "самолета 22" вывели на аэродром. На нем отсутствовало вооружение, поэтому считать его истребителем или бомбардировщиком нельзя. Вероятно, ближе всего машина была к разведчику, хотя и фотооборудование на ней также отсутствовало. Во всяком случае, сам Яковлев в книге "Цель жизни", рассказывая о "самолете 22", назвал его "разведчик и ближний бомбардировщик". Впоследствии по степени важности эти два назначения поменялись местами.

Раскапотированный мотор М-103 самолета ББ-22
Заводские испытания
Уже в первых полетах машина достигла скорости по прибору свыше 500 км/ч -большей, чем у большинства истребителей того времени. Но хватало и дефектов, которые прежде всего были связаны с ненормальной работой силовой установки. Перегревалось масло, на режимах максимальной скорости и скороподъемности выходила за допустимые пределы температура воды. По расчету самолет должен был набирать высоту 7000 м за 8,7 мин, а фактически для этого требовалось вчетверо больше времени, поскольку пилот вынужден был делать "площадки" для охлаждения масла. При посадке чрезмерно перегревались тормозные диски колес, даже если тормоза не использовались (обратите внимание на размеры колес основных стоек "самолета 22" - они кажутся непропорционально маленькими). Во избежание аварии через каждые 4-5 полетов получившие "тепловой удар" покрышки приходилось менять. Вскрылись также дефекты в бензо-системе машины - текли баки и бензопроводы, что грозило пожаром и взрывом.
Понемногу Адлеру и его команде удалось устранить наиболее опасные неисправности. Из контрольного полета Пионтковский "привез" ошеломившую многих максимальную скорость - 572 км/ч (с учетом поправок истинная составила немногим более 560 км/ч, что тоже неплохо). "Самолет 22" на добрую сотню "с хвостиком" километров в час обогнал основной советский серийный бомбардировщик СБ.
Удачу каждый отметил по-своему. Адлер и Пионтковский на радостях посетили ресторан. Бдительный часовой Центрального аэродрома долго не решался пропустить "двух веселых гражданских" на военный объект и уступил лишь после того, как рассерженный Юлиан Янович сунул ему под нос свое комбриговское удостоверение. Яковлев постарался, чтобы феноменальная скорость машины не прошла мимо внимания руководства ВВС РККА. Он продемонстрировал "самолет 22" начальнику ВВС Я.В.Смушкевичу, которому разведчик сразу понравился, и о нем вскоре стало известно И.В.Сталину.
По распоряжению Смушкевича самолет стали готовить к участию в первомайском параде. Яковлева впервые пригласили на правительственную трибуну. С понятным волнением ждал он появления своей машины над Красной площадью. Она завершала авиационную часть парада, где, как писал Александр Сергеевич, "вихрем пронеслась над площадью… и растаяла в небе на глазаху изумленных людей".
Вскоре после парада поступило распоряжение перегнать самолет для проведения государственных испытаний на щелковский аэродром НИИ ВВС. Яковлев распорядился до передачи военным устранить на самолете все выявленные дефекты. По мнению Адлера, для этого требовался минимум месяц, но главный конструктор выделил всего две недели. Работали, как принято в авиации, "от темнадцати до темнадцати". В аэродромном ангаре не было освещения. Когда стало ясно, что времени немного не хватит, доводку продолжали и ночью при свете фар подогнанной к воротам ангара "полуторки".
К назначенному сроку самолет был подготовлен. В день отлета приехавший на аэродром Яковлев осмотрел в последний раз машину, пожелал Пионтков-скому удачи и остался посмотреть, как самолет поднимется в воздух. Шеф-пилот отрулил в конец аэродрома, чтобы взлетать против ветра. В момент разворота хвостовая стойка попала в заросшую травой "ямку", оставшуюся от основного колеса долго стоявшего на этом месте ТБ-3. Хрясь! Пионтковский выключил моторы. "Что там случилось?" -рассерженно воскликнул Яковлев. Осмотрев самолет, Адлер доложил: "Сломан костыль, трещина в раме шпангоута, немного повреждены киль и обшивка, работы примерно на неделю". Главный конструктор рассвирепел. Подъехав к самолету, он высказал много разных определений в адрес Пионтковско-го, который даже не посмел выйти из кабины. Закончив словоизвержение, Яковлев, обращаясь к Адлеру, дал на ремонт 24 часа. Нереальность срока его не смутила. Возражать не посмели, но фактически машину удалось отремонтировать только спустя три дня.
Лучшее как враг хорошего
Сталин, вопреки расхожему мнению, навеянному изучением "трудов" вроде пресловутого "Дня М", не был дилетантом в области авиации, обладая полной информацией о ходе работ во всех авиационных КБ, имея вполне квалифицированных консультантов и помощников. Тем не менее, он придавал слишком большое значение максимальной скорости полета. Следует заметить, что в то время такая однобокость была вполне закономерной. Зарубежные авиационные журналы пестрели сообщениями о новых самолетах, якобы имевших скорость более 550-600 км/ч. Лучшие советские машины в Испании уступили по этому параметру немецкой новинке - истребителю Bf 109E. Летом 1939 г. в небе над Халхин-Голом наши истребители первое время проигрывали японским, и в немалой степени из-за отсутствия превосходства в скорости. На страну надвигалась большая война, для которой следовало быстро создать новое поколение авиационной техники. Поэтому Сталин вовсе не ошибался, заинтересовавшись "самолетом 22".
Потенциальные возможности, достоинства и недостатки последнего были в то время недостаточно ясны даже его создателям. В НИИ ВВС для проведения испытаний была выделена бригада в составе летчика Н.Ф.Шеварева, штурмана А.М.Третьякова и ведущего инженера В.С.Холопова. При снятии высотно-ско-ростной характеристики Шевареву удалось получить максимальную скорость 567 км/ч на высоте 4900 м (истинная -558 км/ч). Для набора высоты 5000 м "самолету 22", согласно отчету, требовалось всего 5,75 мин, а его потолок перешагнул за 10000 м.
По этим данным (без учета грузоподъемности и дальности полета) новая машина занимала одно из первых мест среди самолетов своего класса как в СССР, так и за рубежом. В отчете по испытаниям особо отмечалось, что полученная скорость не является предельной: она вполне могла быть доведена до 600 км/ч при усовершенствовании системы охлаждения моторов, изменении системы выхлопа и более удачном подборе винтов.
Самолет получил высокую оценку командования НИИ ВВС, его облетал сам начальник института бригинженер А.И.Филин и авторитетные летчики-испытатели майоры П.М.Стефановский и Кабанов. Не менее высокой оказалась и оценка технологичности машины. В "Выводах" отчета Холопов подчеркнул: "Самолет 22 дешев, имеет хорошее производственное выполнение, его технология как деревянного проста, легко может быть освоена… По культуре отделки наружной поверхности, производственному выполнению отдельных узлов и агрегатов самолет 22 может служить примером для отечественной авиапромышленности".
Хотя специалисты ОКБ Яковлева при создании машины старались применить как можно больше проверенных решений, однако переход в новый диапазон скоростей и установка очень мощных по тем временам моторов жидкостного охлаждения (прежде почти все машины ОКБ оборудовались легкими звездообразными двигателями) поставили перед конструкторами совершенно новые для них проблемы.
В ходе государственных испытаний, начавшихся 29 мая 1939 г., вновь проявился перегрев моторов, неудовлетворительная работа тормозов, гидросистемы и других агрегатов самолета. На нем по-прежнему отсутствовало вооружение и совершенно необходимое, по мнению сотрудников НИИ ВВС, оборудование: радиостанция, самолетное переговорное устройство (СПУ), аэрофотоаппарат и т.п. Но самым неприятным оказалось другое. Выявилось несо- L ответствие некоторых характеристике машины, выбранных Яковлевым и его сотрудниками "по собственному разумению", сложившимся к тому времени у, военных стереотипам, в большинстве своем вполне обоснованным. К примеру, бомбовая нагрузка для двухмоторной машины справедливо представлялась им слишком малой. Совершенно непонятно было, как могли общаться между собой летчик и штурман при отсутствии СПУ.
В предъявленном на испытания виде машина практически не имела боевой ценности. В связи с этим 7 июня 1939 г. t на опытном заводе ОКБ собралась макетная комиссия под председательством И.Ф.Петрова, в задачу которой входила выдача рекомендаций по превра- * щению "самолета 22" в "полноценный бомбардировщик". Для этого комиссия предложила перенести кабину штурмана вперед, разместив ее сразу за рабочим местом пилота. Тем самым обеспечивалась так называемая "живая связь", т.е. штурман, хлопнув летчика по плечу, мог указать ему цель, заходящий в атаку вражеский истребитель, живописный закат солнца… Отсутствие СПУ становилось не столь уж важным. Другим предложением было сдвинуть бомбоотсек назад, обеспечив подвеску внутри фюзеляжа четырех 100-кг бомб (в межлон-жеронном пространстве прежнего бом-боотсека для них попросту не хватало места). Еще две такие бомбы планировалось нести на наружной подвеске. Комиссия также предложила установить на самолете колеса увеличенного диаметра, соответствующие полетной массе, смонтировать радиостанцию и другое оборудование,отладить стрелковое вооружение (в макетном виде оно было установлено накануне), особенно подвижную установку. Предлагалось проработать несколько вариантов, в том числе и со стандартной турелью МВ-3, только что прошедшей испытания.
Несомненно, что комиссия руководствовалась самыми лучшими намерениями. Авторитетные военные специалисты попытались сформировать такую систему требований, чтобы "на выходе" получился самолет, способный заменить массовый фронтовой бомбардировщик СБ. Однако они не учли, что маленькая машина (а "самолет 22" был значительно меньше СБ по габаритам) имела весьма ограниченные возможности для перекомпоновки. В результате неизбежно возникли следующие негативные последствия: перемещение вперед сравнительно легкой кабины штурмана и размещение довольно тяжелого бомбового груза позади центра тяжести привели к заметному сдвигу центровки назад, а значит, к ухудшению устойчивости; в фюзеляже не осталось места для бензобаков, что вызвало уменьшение дальности полета; увеличение полетной массы машины в связи с предлагаемыми переделками потребовало еще одного "витка" усиления колес, амортстоек и некоторых других узлов.



Опытный ББ-22 постройки завода №115 на испытаниях
Между тем, у комиссии была совершенно другая возможность, оставшаяся неосуществленной. Если бы она захотела увидеть в "самолете 22" ближний разведчик без всяких "бомбардировочных дополнений", то судьба яковлевского боевого первенца могла бы сложиться иначе. Такой вариант не требовал радикальных перекомпоновок, связанных с переносом кабины и бомбоотсека. Он оказался бы свободен от значительной части недостатков, порожденных решением макетной комиссии. Но перспективы у разведывательной авиации ВВС РККА именно в тот момент оказались самыми незавидными. Мало сказать, что в конце 30-х ей не придавали особого значения. С ней фактически расправлялись, как с "классовым врагом". В речи наркома обороны К.Е.Ворошилова на XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 г. как о большом достижении говорилось, что за последние пять лет "… разведывательная авиация… уменьшилась в два раза". Матчасть советской разведывательной авиации к началу Великой Отечественной войны оказалась самой отсталой: Р-5, P-Z, в лучшем случае Р-10 и СБ. Часть этих машин, как отмечалось в отчетных материалах ВВС, находилась "в ветхом состоянии". Не лучше обстояло дело и с личным составом. В разведывательную авиацию списывали неспособных, слабо владеющих техникой пилотирования и боевого применения летчиков-бомбардировщиков и истребителей.
Такое отношение вскоре обернулось бумерангом, когда командованию срочно потребовались "глаза" за линией фронта. Всего за полтора месяца войны все разведывательные авиаполки ВВС фронтов утратили боеспособность. В немалой мере причиной тому было отсутствие современных самолетов-разведчиков.
Но вернемся к "самолету 22". Благосклонное отношение к нему у Сталина сложилось, по-видимому, еще до окончания заводских испытаний. 27 апреля он вызвал главного конструктора в Кремль. В книге "Цель жизни" Яковлев писал об этой встрече: "Сталин, Молотов и Ворошилов очень интересовались моей машиной ББ и все расспрашивали, как это удалось при таких же двигателях и такой же бомбовой нагрузке, что и у СБ, получить скорость, превышающую скорость СБ. (Ну, здесь Александра Сергеевича, вероятно, подвела память: самолет еще не назывался ББ-22, а по бомбовой нагрузке он заметно уступал СБ. - авт.) Я объяснил, что здесь все дело в аэродинамике, что СБ проектировали 5 лет тому назад, а наука за это время продвинулась далеко вперед. Кроме того, нам удалось свой бомбардировщик сделать значительно легче, чем СБ. Сталин все ходил по кабинету, удивлялся и говорил: "Чудеса, просто чудеса, это революция в авиации". Было решено запустить ББ в серийное производство".

Як-2 в полете
Однако на самом деле ситуация с "самолетом 22" складывалась намного сложнее. Визитов в Кремль было несколько. Не все они исчерпывались дифирамбами в адрес Яковлева. Так, в августе вместе с ним к Сталину ездили сотрудники НИИ ВВС военинженер 3 ранга Холопов и экипаж, испытывавший машину. В своем докладе Холопов аргументированно указал на многочисленные недостатки "самолета 22". Сталин помолчал, а затем задал вопрос: "Но воевать-то на нем можно?". Ведущий инженер слегка растерялся, а затем пересказал содержание предложений макетной комиссии. Снова возникла пауза, после чего Сталин отпустил военных. Яковлев остался в кабинете. Вероятно, он сумел убедить вождя в том, что дело поправимо. Одновременно молодой конструктор доложил об окончании работ по проектированию и о начале постройки опытного истребителя И-26, впоследствии названного Як-1. Вскоре Яковлев и ряд его сотрудников были награждены орденами за создание "самолета 22". Кроме того, многообещающему главному конструктору была присуждена Сталинская премия (100000 руб.), а в качестве дополнительного "презента" он получил автомобиль ЗИС. Еще раньше, в соответствии с постановлением Комитета Обороны при СНК СССР от 20.06.1939 г., "самолет 22" был запущен в серийное производство.
Не в свои сани не садись
Решение о том, что новая машина Яковлева будет строиться серийно на заводе №1 в Москве, приняли еще весной 1939 г. В апреле-мае ОКБ начало передачу рабочих чертежей, которые, впрочем, позже пришлось частично переделывать в связи с перекомпоновкой фюзеляжа. В конце лета на заводе №115 началось изготовление второй опытной машины - ближнего бомбардировщика ББ-22, в конструкции которого были реализованы предложения макетной комиссии.
Высота фюзеляжа в районе кабины штурмана увеличилась на 80 мм, в результате чего "спина" самолета выглядела более покатой. Складывать гаргрот стало невозможно, поэтому конструкторам пришлось поломать голову, как обеспечить приемлемые углы обстрела для верхней стрелковой точки. В январе 1940 г. пришлось собрать специальную комиссию (с участием представителей ВВС), которая должна была выбрать один из шести проработанных вариантов.
Яковлев категорически возражал против установки экранированной вращающейся турели типа МВ-3, хорошо зарекомендовавшей себя на СБ и ДБ-3, поскольку потеря скорости оказывалась чрезмерной (кстати, впоследствии в своей книге неудачу с ББ-22 он свяжет именно с "тяжелой и громоздкой стандартной экранированной турелью", чего на самом деле не было). Вместо нее в ОКБ разработали собственный вариант подвижной пулеметной установки СУ ББ-22. Он предусматривал приоткрывание фонаря над штурманом и поднятие дуги турели с помощью пневмоцилиндра. Семь машин из первого десятка оборудовали установкой СУ ББ-22, а на трех оставшихся смонтировали в порядке эксперимента: на одном - установку Фролова (опрокидывающийся вперед фрагмент остекления и ШКАС на шкворне), на другом -серийную МВ-3, на третьем - турель Д-И-6, потребовавшую срезать гаргрот в средней части фюзеляжа. Последняя установка стала основной на ББ-22. Никаких "выдвигающихся башен", подобных изображенным в журнале "Моделист-конструктор", на серийных самолетах не было.
В бомбоотсеке подвешивались две бомбы ФАБ-50 или ФАБ-100 в кассете КД-2-438, либо двадцать осколочных бомб типа АО-8, АО-10 или АО-20 в двух кассетах КД-1-1038. Под крылом имелись еще 2замкаД2-МАдля ФАБ-50 или ФАБ-100. Внутренняя подвеска четырех ФАБ-100 приводила к такому большому сдвигу центровки назад, что без бомб под крылом пилотирование становилось вообще невозможным. Все управление бомбовым вооружением находилось в кабине штурмана, в том числе оптический прицел ОПБ-1ма, электросбрасыватель ЭСБР-Зп и его механический дублер МСШ-8. Для улучшения охлаждения моторов пришлось пойти на увеличение проходных сечений водо- и маслорадиа-торов. В результате всех доработок масса пустого самолета выросла почти на 300 кг. С учетом этого вместо колес с размерами 600x250 мм были установлены усиленные 700x300 мм. Выбранные в свое время габариты ниш шасси, зажатые спереди мотором, а сзади и по бокам - тоннелями водорадиаторов, не позволяли теперь убирать колеса полностью. Эти и другие причины привели к тому, что опытный ББ-22 на испытаниях, закончившихся в феврале 1940 г., показал на высоте 5000 м максимальную скорость 535 км/ч - на 23 км/ч меньшую, чем "самолет 22". Но это были только цветочки.
Завод №1 имени Авиахима, один из наиболее мощных в стране, в марте 1940 г. предъявил на испытания серийный ББ-22, зав. №1012 (первый полет на серийном ББ-22 совершил 26 декабря 1939 г. летчик А.Н.Екатов). Производственное исполнение машины оказалось настолько плохим, что ее максимальная скорость на расчетной высоте 5000 м снизилась до 515 км/ч. Многочисленные щели вокруг люков, между капотами, посадочными щитками и крылом испортили аэродинамику самолета. Крепление фанерной обшивки к каркасу осуществлялось на шурупах с шайбами без последующей отделки, в то время, как опытный самолет шпатлевался, вышкуривался и полировался после окраски. Серийная машина имела цвет натуральной фанеры и дюраля, поскольку перед испытаниями ее не окрашивали совсем!
Трудно понять, почему руководство завода №1 (директор П.А.Воронин) столь наплевательски отнеслось к машине Яковлева, ставшего в январе 1940 г. заместителем наркома авиационной промышленности по опытному самолетостроению. Возможно, оно слишком привыкло к спокойной жизни, наладив крупносерийный выпуск истребителей И-15, а позднее И-153. Вероятно, завод был занят подготовкой к производству новейшего истребителя И-200 (будущего МиГ-1). Возможно, причиной был крохотный для завода объем заказа - всего 242 машины. Как бы то ни было, по мере серийной постройки летные данные ББ-22 не только не улучшались, но становились все хуже и хуже.

Як-2 постройки завода №81 на испытаниях в НИИ ВВС
Головные машины, так называемые "самолеты первого десятка" или "войсковой серии", весной 1940г. проходили войсковые испытания в НИИ ВВС. Результаты их оказались, мягко говоря, разочаровывающими. Вновь выявились недоведенность винтомоторной группы, недостаточная прочность колес основных стоек шасси. Плохой обзор из кабины штурмана затруднял ориентирование и выход на цель. Вооружение самолета опять оказалось неотлаженным: не открывались створки бомболюка, требовались огромные усилия для сбрасывания бомб от МСШ-8, задняя стрелковая установка не могла использоваться по назначению, поскольку пневмосистему подъема фонаря и дуги турели не успели как следует отработать. Примитивный механический прицел у летчика не выдерживал критики. Машины отличались сравнительно большой посадочной скоростью, непривычно крутой траекторией планирования, недостаточной поперечной и путевой устойчивостью. При высоком выравнивании (весьма типичной ошибке летчиков) самолет быстро проваливался, жесткая амортизация шасси оказалась неспособной гасить возникающие удары.
С точки зрения эксплуатационщиков ББ-22 оказался форменным кошмаром: только на "раскапочивание-закапочивание" двигателей уходило добрых полчаса, доступ к агрегатам был неважным, в системе охлаждения имелось более 20 сливных кранов… Безрадостную общую картину довершила вибрация хвостового оперения, из-за которой войсковые испытания пришлось прекратить. Объем доработок и изменений конструкции нарастал подобно снежному кому. Сам Яковлев к середине 1940 г. физически не имел времени для того, чтобы решать проблемы "двадцать второго": он занимался И-26 и его "спаркой" УТИ-26, одновременно выполняя обязанности замнаркома. Функции главного конструктора ББ-22 были фактически делегированы его заместителю К.А.Виганту, а позднее - начальнику созданного при серийном заводе конструкторского бюро (СКБ) Я.Н.Стронгину.
СКБ предпринимало отчаянные усилия для того, чтобы спасти ситуацию с серийным выпуском. На машинах летней постройки пришлось вновь увеличить проходное сечение каналов радиаторов, ввести еще по одному маслора-диатору с воздухозаборником на внутренней стороне мотогондол и установить спаренные колеса на основные стойки шасси. Мидель мотогондол несколько вырос в связи с разворотом водорадиа-торов перпендикулярно воздушному потоку. Для улучшения обороноспособности самолета по образцу, опробованному в ходе войсковых испытаний, понизили гаргрот за кабиной штурмана, в которой смонтировали установкуД-И-6 с пулеметом ШКАС (начиная с опытной машины зав. №1045 на ББ-22 стали устанавливать стандартную турель скоростного самолета ТСС-1 с несколько увеличенными углами обстрела).
Качество производственного исполнения планера осталось низким: обшивка крыла имела волнистость, не вышкуривалась, окрашенные поверхности были шероховатыми. Полетная масса машины вновь возросла и достигла 5660 кг. Удельная нагрузка на крыло при этом увеличилась до 192,5 кг/м2. Максимальная скорость полета серийного ББ-22 зав. №1041 без бомб на внешней подвеске на расчетной высоте 4600 м упала до 478 км/ч. С нагрузкой, состоявшей из 400 кг бомб в фюзеляже и двух ФАБ-50 под крылом, машина уже не могла разогнаться быстрее 445 км/ч. Таким образом, по скорости полета она практически сравнялась с СБ!
Для спасения машины следовало предпринять что-то радикальное. Первой такой мерой стала передача производства ББ-22 по указанию НКАП на тушинский завод №81 им. В.М.Молотова (существовали также планы развертывания постройки самолетов этого типа на заводе №381). Завод №1, изготовив 81 машину (что составило 116 процентов плана, много раз скорректированного в сторону уменьшения), перешел на выпуск истребителей И-200. Второй мерой стала разработка серийной модификации ББ-22 с моторами М-105, чем занялись в сформированном на заводе №81 КБ-70 во главе с Л.П.Курбалой (говорят, что число 70 - это просто количество конструкторов и технологов, переведенных с завода №1).
ОКБ №115 сосредоточило усилия на разработке истребительного варианта машины, получившего обозначение И-29. Кроме того, поздней осенью 1939 г. заводом №115 в развитие "самолета 22" был построен разведчик Р-12. Несколько отступая от хронологии, опишем кратко судьбу этих двух машин. Впрочем, у Р-12 судьбы, как таковой, практически не было. Повторяя в основных чертах опытный ББ-22, он отличался от последнего, в основном, моторами М-105 (впервые смонтированными на самолете Яковлева), наличием радиостанции и аэрофотоаппаратов: дневного АФА-1 и ночного НАФА-19. Первый полет Р-12 состоялся 15 ноября 1939 г. Затем последовал период неблагоприятной погоды. До конца года машина еще дважды поднималась в воздух, при этом выявились ненормальности в работе мотоустановки (из-за ошибки при монтаже нагнетатели постоянно работали на второй скорости). В результате полеты были приостановлены. Весной 1940 г. началась эпопея с колесами основных стоек, которые регулярно разрушались. К середине лета стало ясно, что самолет отстал от того ряда усовершенствований, которые были уже внесены или готовились к внедрению на серийных ББ-22 (спаренные колеса, улучшенная система охлаждения моторов, новая оборонительная установка и пр.). В связи с этим доводить машину не стали. Сведения о полученных летных данных не найдены.

ББ-226ис над аэродромом НИИ ВВС
Истребитель И-29, по мнению Яковлева и Стронгина, был более перспективным. Машина строилась во второй половине 1940 г. также с моторами М-105. Наступательное вооружение самолета состояло из двух подфюзеляж-ных пушек ШВАК. И-29 был одноместным. Первый полет, в котором выявилась недоведенность винтомоторной группы, машина совершила в декабре 1940 г. Далее последовал длительный и мучительный этап доводок. Работы по нему продолжались даже после прекращения серийного выпуска Як-4, но внимание к И-29 закономерно уменьшилось. Всю весну 1941 г. в сводках по опытному строительству этот истребитель упоминался как проходящий заводские испытания. К сожалению, каких-либо подробностей эти материалы не содержат. Даже начавшаяся война не привела к отказу от И-29, так как уже в первые месяцы боев выявилась необходимость в двухмоторном истребителе с повышенной дальностью и продолжительностью полета. И только стремительное ухудшение ситуации с выпуском самолетов для фронта в ноябре-декабре 1941 г., а также выпуск серии истребителей Пе-3 заставило отложить эту работу "в долгий ящик", а в следующем году она была прекращена окончательно.
Ближние бомбардировщики завода №81
Завод в Тушино не принадлежал к числу промышленных гигантов, однако был сравнительно новым: он вошел в строй в 1934 г. До яковлевской машины на нем выпускались двухместные истребители-бипланы ДИ-6. Затем полтора года завод самолетов не строил. В результате кадры специалистов-сборщиков оказались потеряны. Для организации серийной постройки ББ-22 пришлось набрать в цех окончательной сборки малоквалифицированных "фабзайчат".
Но… меньше амбиций - больше дела. Для директора предприятия Н.В.Климо-вицкого постройка ББ-22 являлась наиболее важным заданием 1940 г.: объем заказа составил 300 машин! Первые десять ББ-22 по конструкции полностью повторяли головные самолеты завода №1 (с несрезанным гаргротом). Переданные в 136-й авиаполк, они подверглись суровой критике. Но уже в октябре на заводские испытания вышел самолет зав. №70204. На нем, в отличие от машин завода №1, впервые в процессе серийного производства "двадцать второго" удалось добиться улучшения ЛТХ по сравнению с предшественниками.

Як-2 в разведывательном полете
Самолет немного "сбросил в весе", даже несмотря на применение оклейки фюзеляжа и крыла полотном. Новые патрубки с направлением выхлопа, ориентированным строго назад вдоль верхней поверхности крыла, измененные тоннели водорадиаторов (их проходное сечение уменьшили на 25%, а переднюю губу воздухозаборника выдвинули вперед на 450 мм) и некоторое улучшение качества поверхности планера позволили увеличить максимальную скорость полета на расчетной высоте почти до 500 км/ч, довести время набора 5000 м до 8 мин, а потолок - до 8700 м. В проводке управления удалось уменьшить люфты, вызывавшие вибрацию хвостового оперения. Параллельно усилили замок костыля, исключив его складывание при рулежке по неровному полю. Конструкторы поработали и над устранением дефектов вооружения: бомболюки стали нормально
открываться на всех режимах полета, упростилась подвеска бомб…
Однако список "тонких мест" по мере освоения самолета не только не уменьшился, но и продолжал нарастать. Настоящим откровением для строевых летчиков стало требование вначале сбрасывать бомбы внутренней подвески, а затем - внешней (обычно делается наоборот). В результате при неполной загрузке бомбоотсека в сбрасываемой серии возникал разрыв, что снижало эффективность бомбового удара. Другой пример - остекление кабины экипажа. Из-за отсутствия в стране прозрачного высококачественного оргстекла пришлось изготавливать его из… цветного целлулоида! Обзор из кабины штурмана на самолете ББ-22 был неважным. Спереди зона видимости ограничивалась носовой частью самолета и креслом пилота, вперед в стороны - длинными мотогондолами, вбок - крылом, а назад в стороны - шайбами килей. Теснота рабочего места не позволяла установить про-тивокапотажную стойку. На последних машинах завода №1 в боковых поверхностях носовой гондолы фюзеляжа прорезали по два окна с каждой стороны, что немного улучшило обзор. Поздние ББ-22 производства завода №81, кроме того, получили еще одно окно в полу кабины штурмана.
К сожалению, "родимые пятна" самолета, связанные с чрезмерно задней центровкой, устранить не удалось. В полете летчик должен был постоянно держать ухо востро, иначе машина могла самопроизвольно накрениться или войти в разворот. На вираже следовало удерживать ее от скольжения "обратной ногой", т.е. отклоняя рули направления "на вывод" из разворота. Все это делало ее доступной только летчикам со средней и высокой квалификацией. Шеварев испытал ББ-22 с шестью ФАБ-100 (четыре из них в бомбоотсеке) и сделал вывод, что взлет с такой нагрузкой при наличии хороших подходов к аэродрому вполне возможен. На одном моторе машина сравнительно нормально летала по прямой, но разворот допускала только в сторону неработающего двигателя.
Понемногу становилось ясно, что для превращения ББ-22 в полноценный бомбардировщик не обойтись только устранением выявленных дефектов. Улучшения летных качеств (особенно устойчивости) и эксплуатационных свойств машины можно было добиться только путем радикальных изменений геометрии и конструкции планера, на что у Курбалы полномочий не было…
Попробуем с М-105…
"Самолет 23" с моторами М-105, в остальном аналогичный "самолету 22", прорабатывался еще на этапе эскизного проектирования боевого первенца ОКБ Яковлева. Предполагалось, что машина с более мощной силовой установкой сумеет развить скорость порядка 625 км/ч. Позднее оценки стали более реалистичными, но интерес к этому варианту остался.
В марте 1940 г. на заводе №1 закончили переделку серийного самолета в вариант ББ-22бис. Внешне машина (зав. №1002) мало отличалась от обычных ББ-22 (с пониженным гаргротом) выпуска завода №1. Лишь удлиненные выхлопные патрубки, металлические накладки на крыле, предохранявшие фанерную обшивку от обгорания, да отсутствие стандартной зелено-голубой окраски позволяют опознать ее на фотографиях.

Первый опытный экземпляр самолета ББ-22бис
Именно на этой машине впервые опробовали установку дополнительного 8-дюймового маслорадиатора на внутренней поверхности мотогондол, винтов переменного шага ВИШ-22Е и спаренных колес на основные стойки шасси. Следует отметить, что в этот период моторы М-105 были еще очень "сырыми" и доставили ведущему инженеру Ф.В.Пименову и ведущему летчику П.Н.Моисеенко немало неприятностей.
В мае 1940 г. заводские испытания ББ-226ис были завершены. В ходе них была получена максимальная скорость полета у земли 460 км/ч, а на второй границе высотности (4800 м) - 574 км/ч. Время набора высоты 5000 м уменьшилось до 5,45 мин. Несмотря на значительное количество выявленных дефектов, испытания добавили оптимизма создателям ББ-22, да и руководству ВВС КА. Скорость машины на расчетной высоте оказалась на 20-25 км/ч большей, чем у серийного германского истребителя Bf 109Е, испытанного в НИИ ВВС в июне 1940 г. В результате визита комиссии генерала Астахова на завод №81 был сделан вывод о наличии у ББ-22бис лишь вполне устранимых производственных дефектов и об отсутствии серьезных конструктивных. Не пройдет и полгода, как командование ВВС радикально изменит свои взгляды.
Судьба самолета зав. №1002 сложилась неудачно. 23 мая 1940 г. после одного из полетов Моисеенко, руливший на повышенной скорости, не справился с управлением (по его словам, на повороте не сработали тормоза) и правой консолью задел за стоявший СБ, а затем по инерции "въехал" во второй. Напомним, что крыло у ББ-22 неразъемное, а разрушения его оказались очень велики. Машину решили не восстанавливать.
Второй опытный экземпляр ББ-22бис (зав. №1045) изготовили в июне 1940 г., когда на заводе №81 уже вовсю шла подготовка к производству серийных машин с моторами М-105, поэтому производить его полномасштабные государственные испытания не стали. Известно, впрочем, что именно на нем впервые были опробованы подвесные баки "лодочного" типа (как на И-16) емкостью по 100 л.
Выпуск серийных самолетов ББ-22бис завод №81 начал в октябре 1940 г. Эти машины заметно отличалась от опытной зав. №1002. Прежде всего каждая из мотогондол стала оснащаться вместо двух цилиндрических одним сегментным (подковообразным) маслора-диатором, расположенным в "бороде", как это было впервые сделано на "дублере" ББ-22бис. На выходе тоннеля радиатора монтировалась створка, позволявшая регулировать температуру масла в полете (маслорадиаторы ББ-22 не имели подобного устройства). Другим заметным отличием являлась серийная подвижная установка штурмана ТСС-1 с пулеметом ШКАС, однотипная с установленной на Пе-2. Запас патронов для нее - 800 штук. Носовая стрелковая точка осталась прежней. Имелась и масса других, более мелких изменений. К примеру, на наружной подвеске серийный ББ-22бис мог нести до четырех бомб на замках Д2-МА-250 (общей массой не более 500 кг). Не менее важным было и то, что вместо винтов ВИШ-2К, лопасти которого могли занимать лишь два положения, новая модификация оснащалась винтами плавно изменяемого шага ВИШ-22Е, что обеспечивало более рациональное расходование топлива.

С целью увеличения дальности полета серийные ББ-22бис получили подвесные 100-литровые баки. При общей емкости шести крыльевых баков 960 литров дальность полета на скорости, соответствовавшей 0,9 Умах, достигла 1100 км (у ББ-22 на наивыгоднейшей скорости -не более 900 км). В ходе испытаний серийного ББ-22бис (зав. №70603) была получена максимальная скорость 533 км/ч. Однако эти победы дались дорогой ценой - удельная нагрузка на крыло перешагнула за 200 кг/м2.
На основании результатов, полученных при испытаниях первого опытного экземпляра ББ-22бис, 27 июня 1940 г. было принято Постановление правительства №317. В нем ставилась задача создания модифицированного ББ-22 в варианте пикирующего бомбардировщика и задавались основные требования к нему: максимальная скорость на высоте 5000 м - 570 км/ч, дальность полета -1200 км, способность брать на борт четыре 100-кг или две 250-кг бомбы. Тормозные решетки должны были ограничивать скорость пикирования - не более 560 км/ч по прибору. Этой машиной с июля 1940 г. на заводе №81 стал заниматься Л.П.Курбала. Она получила название "изделие 31" или БПБ-22. Самолет оснастили механизмом автоматического ввода и вывода из пикирования и увеличили остекление пилотской кабины для улучшения обзора вперед-вниз. В конце октября 1940 г. летчик М.А.Липкин поднял БПБ-22 в воздух. С полетной массой 5962 кг самолет на испытаниях показал скорость 533 км/ч на высоте 5100 м (она возрастала до 558 км/ч после сброса бомб).
Дальнейшие испытания"на аэродроме в Раменском производил летчик Я.Пауль. Опытный испытатель сумел предотвратить катастрофу, когда внезапно прекратилась.подача горючего, и моторы остановились. Ему удалось круто развернуть строгий в пилотировании самолет и не свалиться при этом в штопор. Машина заходила под углом к полосе, и нескольких метров высоты не хватило, чтобы перетянуть через забор аэродрома. Авария задержала дальнейшие работы, а прекращение производства серийных вариантов ББ-22 поставило на них крест.
В ноябре 1940 г. состоялось совместное совещание руководства ВВС и НКАП по вопросу устранения дефектов самолета ББ-22. Председательствовал начальник Главного управления ВВС генерал-лейтенант авиации П.В.Рычагов. На совещании были определены 12 наиболее важных недостатков самолета, требовавших немедленного устранения. Большую часть дефектов сочли вполне устранимыми и требующими только времени. Оставались, в основном, претензии к устойчивости. Курбала (вероятно, с разрешения Яковлева) заявил о том, что выход найден, и заключается он в увеличении длины фюзеляжа до 10,17м.


Серийный Як-4

Поврежденный Як-4 314-го РАП на аэродроме Бобруйск
В технических условиях на поставку самолетов заводом №81 в 1941 г. была "забита" именно эта длина. Однако все серийные самолеты имели длину на стоянке 9,94 м. Нормальную полетную массу серийной машины определили равной 6100 кг - на сотню кг меньше, чем у самолета зав. №70603. Никакого трагизма в оценке ситуации с производством ББ-22бис на совещании не прозвучало. Шел обычный, быть может, немного затянувшийся процесс доводки машины.
Государственный план на 1941 г. предусматривал выпуск 1300 двухмоторных бомбардировщиков Яковлева. Однако в декабре 1940 г. ситуация круто изменилась: на заводе №39 совершил первый полет двухмоторный пикирующий бомбардировщик ПБ-100 (впоследствии-Пе-2). В соответствии с распоряжением НКАП яковлев-ские машины также получили новые наименования: ББ-22 с моторами М-103 стал называться Як-2, а ББ-22бис с моторами М-105 - Як-4.
На госиспытания в конце 1940 г. передали сразу несколько Яков осенней постройки. Вот когда у Александра Сергеевича начались настоящие неприятности! Сравнение летно-технических и эксплуатационных данных "пешки" и Яков-бомбардировщиков оказалось явно не в пользу последних. По скорости и дальности полета, по бомбовой нагрузке и мощи оборонительного вооружения -практически по всем важнейшим параметрам головной серийный Пе-2 превзошел Як-4, не говоря уж о Як-2. Накопившееся у руководства ВВС раздражение против "упрямой машины" наконец-то можно было не сдерживать. В "Заключении…" по госиспытаниям двух Як-2 и двух Як-4 начальник НИИ ВВС ген.-м-р авиации А.И.Филин особо выделил пункт о том, что самолеты "в испытанном виде не являются надежными и боеспособными"… Резко ужесточились требования военной приемки. 17 февраля 1941 г. заместитель Рычагова ген.-л-нтавиации Астахов в письме наркому авиапрома А. И.Шахурину называет положение, сложившееся с серийным выпуском Як-4, нетерпимым и просит его личного вмешательства.
По состоянию на 31 января завод №81 построил полсотни "четверок", и лишь три из них были облетаны. Большая часть стоявших под снегом самолетов имела дефекты винтомоторной группы, не позволявшие поднять машины в воздух. Постановлением правительства от 11 февраля 1941 г. серийный выпуск Як-4 на заводе №81 прекратили. Вместо них завод должен был наладить постройку истребителя Як-3 (первого с таким названием, более известного как И-30). В немалой степени такому повороту событий способствовал и опыт эксплуатации двухмоторных Яков в строевых полках.

Этот Як-4 достался немцам с незначительными повреждениями
К моменту официального прекращения производства завод №81 успел построить 30 Як-2 и 57 Як-4. Последние довольно долго доводили, и они попали в части только весной 1941 г. Кроме того, еще 33 Як-4 были выпущены уже после получения приказа НКАП, аннулирующего заказ. Таким образом, общий итог выпуска двухмоторных Яков на двух заводах составил 111 Як-2 (все постройки 1940г.)и 90 Як-4(27 в 1940г. и 63 в 1941 г.).Так какдве серийные машины и опытный ББ-22бис потерпели аварии еще на заводе, то в строевые части попали лишь 198 машин. Позднее, при подготовке своих мемуаров, Яковлев собственноручно "уточнил" эту цифру, доведя ее до "почти 600".
"Оденьтесь скромно, мы пойдем на кладбище…"
Первым авиаполком, получившим на вооружение самолеты Яковлева, стал 136-й ближнебомбардировочный (ББАП). Многочисленные дефекты ББ-22, требовавшие устранения силами заводских бригад, сильно повлияли на ход боевой подготовки. Ненастная осень 1940г. сменилась многоснежной зимой. Полк, входивший в состав 19-й авиадивизии, базировался на аэродромах Бердичев и Нехворощь, буквально засыпанных снегом. Отсутствие средств для укатки аэродрома (зачем?., это ведь теплая Украина…) и самолетных лыж поставило Яки на прикол. Еще одним слабым местом машины, выявившимся в период зимней эксплуатации, оказались длинные трубопроводы, тянувшиеся к водорадиаторам через всю мотогондолу.
Не лучше обстояли дела в полку и в марте-апреле, когда полеты ограничила весенняя распутица. И вот когда, казалось бы, можно было начинать интенсивную учебу, оказалось, что летать… не на чем. Из тридцати трех имевшихся машин лишь 8 оказались пригодными "для применения по назначению". На семнадцати Яках было обнаружено отставание обшивки нижней поверхности крыла, синева и коробление фанеры, отклейка полотна на элеронах. Остальные требовали восстановления лакокрасочного покрытия.
Всего через 10 дней хранения под открытым небом на самолете зав. №1040 комиссией во главе со старшим инженером 19-й авиадивизии военинженером 1 ранга Степановым были зафиксированы следующие дефекты: вспучивание фанерной обшивки на крыле сверху; отставание верхней обшивки в лобовой части центроплана; трещины шпатлевки на стыке средней и хвостовой части фюзеляжа. Машина успела налетать всего 16 часов. Нетрудно представить, каким было состояние самолетов, простоявших под снегом и дождем всю зиму. По мнению старшего инженера 136-го полка военинженера 2 ранга Чертополо-хова, бомбардировщики Як следовало хранить в ангарах, а в то время это было абсолютно нереально.
На 20 июня 1941 г. в составе 136-го ББАП имелось 49 Як-2 и 5 Як-4 (по штату в пяти эскадрильях должно было быть 60 самолетов). Из 58 летчиков и 63 штурманов с трудом удалось сформировать лишь 36 экипажей, остальные оказались неготовыми к ведению боевых действий даже днем в простых метеоусловиях! Это были выпускники летных школ 1940 г., которые не имели возможности налетать минимума часов для сдачи зачетов.
19-я авиадивизия, находившаяся на аэроузле Белой Церкви, 22 июня практически не понесла потерь. В бой она была брошена утром 25 июня со следующей задачей, полученной накануне от командующего Юго-Западным фронтом генерала М.П.Кирпоноса: "…до 6.50 авиация (15, 16 и 19-я авиадивизии), поддерживающая атаку мехкорпусов, ведет на себя разведку и определяет цели для бомбометания в полосе наступления механизированных корпусов. С 6.50 до 7.00 производится первый, наиболее мощный налет авиации, в последующем до 8.00 - последовательные налеты с целью сопровождения атаки мехкорпусов…".
В течение нескольких следующих дней Як-2 и Як-4 вместе с СБ, Ар-2, Су-2 и Пе-2 группами по 3-6 машин с небольших высот атаковали противника. 28-29 июня им удалось остановить и рассеять в лесах под Остругом одну из немецких танковых дивизий. На несколько дней оказалось приостановленным наступление всей 1-й танковой группы в направлении Славуты и Шепетовки. Но какой ценой! 15-я и 16-я авиадивизии, встретившиеся с интенсивным противодействием немецкой зенитной артиллерии и асов из истребительной эскадры JG3 "Удет", понесли огромные потери и практически потеряли боеспособность.
136-й полк пострадал в меньшей степени, но и боевых вылетов на его счету было гораздо меньше. Сказаласьслабая освоенность Як-2 и Як-4 летным и техническим составом. Выявилось также, что серьезной угрозой для новых, незнакомых машин являются свои же зенитчики и истребители. Так, 28 июня один Як-2 был подбит "Чайкой" в районе Судилков. В начале июля на летчиков 19-й дивизии легла основная тяжесть бомбовых ударов по наступавшим войскам противника. Истребителей прикрытия оказалось недостаточно, и 19-я АД повторила судьбу других соединений ВВС Юго-Западного фронта. К 16 июля в 136-м полку оставалось всего 13 экипажей и 6 Як-2 (из них 2 неисправных). В воздушных боях удалось уничтожить 5 Bf 109, а на земле, по докладам экипажей, догорали десятки неприятельских танков и бронемашин.
В ходе боевых действий с Яков сбрасывались исключительно ФАБ-50 и ФАБ-100. Любопытно, что все "четверки" погибли за три недели боев, зато в числе уцелевших оказался один Як-2 из "войсковой серии". Эта машина с момента выпуска налетала более 50 часов, а 18 июля в составе четверки Яков ушла на свое последнее задание. Попав в сплошную облачность, экипажи не смогли отыскать цель в районе Сквира-Рагозно. На обратном пути один из самолетов сорвался в штопор и разбился. Еще две машины потерпели аварии при посадке. После этого случая полеты на Як-2 в сложных метеоусловиях запретили. 4 августа два из трех-оставшихся Яков были сбиты немецкой зенитной артиллерией в районе Дубровино. Так завершился боевой путь 136-го ближнебом-бардировочного авиаполка. Уцелевшие экипажи направили в 507-й ББАП.
Большая часть пилотов 136-го полка не успела совершить сколь-нибудь заметного количества боевых вылетов. В основном, в летных книжках остались отметки о выполнении 4-6 заданий, но были и исключения. Так, лейтенант Гордеев за месяц успел сделать 77 боевых вылетов! Часть из них - на разведку, поскольку летное поле аэродрома Ичня, где последнее время базировался полк, не обеспечивало взлет с бомбовой нагрузкой из-за недостаточных размеров. Летчики с иронией расшифровывали аббревиатуру ББ как "бесполезный бомбардировщик".
Не лучше обстояли дела и в двух других полках, вооруженных Як-2 и Як-4: 316-м разведывательном авиаполку (РАП) Киевского округа и 314-м РАП Западного округа.

Разбитый Як-2 - трофей гитлеровцев
При 31 боеспособной машине 316-й РАП на 22 июня располагал всего двадцатью подготовленными экипажами. И это с учетом огромных усилий по ускоренному вводу в строй молодого пополнения, о чем косвенно свидетельствует уменьшение количества самолетов в полку на 8 единиц за последний предвоенный месяц! Зато 22 июня 316-й полк показал себя с самой лучшей стороны. В полдень его экипажи сумели вскрыть сосредоточение бомбардировщиков эскадры KG54 "Мертвая голова" на аэродроме Свидник юго-восточнее Люблина. Около сотни незамаскированных и нерассредоточенных Ju 88 представляли собой хорошую цель для массированного бомбового удара. Но выгодны м дл я атаки моментом так и не сумели воспользоваться. В начале июля усилиями разведчиков 316-го полка вновь удалось получить важную информацию о начале перебазирования немецкой авиации на захваченные аэродромы Млынув, Луцк, Дубно и Тарнополь. Командование советских ВВС опять не смогло использовать эти данные для нанесения ударов. Лишь 26 июля большая и опасная работа экипажей 316-го РАП принесла свои плоды. Накануне их усилиями была собрана достоверная информация о базировании вражеской авиации на аэродромах Городище, Узин и Фурсы. Внезапный удар по аэроузлу, по мнению советского командования, стоил немцам шестидесяти самолетов разных типов. На этот раз большие потери признал и противник.
Однако отдельные успехи, к сожалению, ничего не меняли. В условиях господства в воздухе вражеской авиации силы 316-го разведполка быстро таяли: к концу июля он имел всего 10 Як-4. Вскоре полк отвели в тыл и переформировали в 90-ю отдельную разведэскадрилью.
К началу войны в 314-м РАП только 6 экипажей были подготовлены к боевым действиям на Яках и еще 12 проходили переучивание. Именно этим определялся боевой потенциал полка, а не имеющимися на 22 июня 19 Як-2 и 34 Як-4. К тому же, в отличие от двух других полков, 314-й уже в первый день войны подвергся внезапному удару немецкой авиации и потерял часть машин.
За полтора месяца боев полк сумел совершить всего 127 боевых вылетов и лишился 32 Яков. Всего 4 самолето-вылета на одну потерю - такие результаты заставили начальника разведывательного отдела ВВС Западного фронта оценить Як-2 и Як-4 как "совершенно непригодные для ведения разведки". Однако были на счету экипажей 314-го РАП и несомненные успехи. Так, они сумели своевременно вскрыть выдвижение 3-й немецкой танковой группы на Гродно и 2-й танковой группы - на Пружаны и далее на Барановичи. К сожалению, командование Западного фронта также оказалось не в состоянии адекватно использовать предоставленную информацию.
В ходе боев к оборонительному вооружению Яков выдвигались обоснованные претензии. Правда, в невысокой обороноспособности машин часть вины лежала и на штурманах, чья стрелковая подготовка оказалась не на высоте. И все же случалось, что и штурманский ШКАС играл свою роль в быстротечном воздушном бою. Так, 30 июня штурман 314-го РАП А.В.Бабушкин сумел "послать в нокаут" Bf 109, атаковавший его Як-4. Вероятно, очередь поразила унтер-офицера Г.Юргенса (H.Jurgens) из IV/JG51, имевшего к этому моменту 12 побед.
К 10 июля в распоряжении командования ВВС Западного фронта оставалось всего 6-7 разведчиков Як-2 и Як-4. Немало экипажей погибло, другие так и не успели войти в строй. Часть из них перевели в другие полки, а некоторые попали… в пехоту. Единственная летчица полка М.И.Толстова не смогла выполнить ни одного вылета и была переведена в санитарки! Впоследствии она вернулась в авиацию и совершила немало вылетов на Ил-2.


Один из серийных Як-2 был переоборудован под установку комбинированной артиллерийско-бомбардировочной батареи КАББ-МВ (Можаровского-Веневидова), включавшей 2 пушки ШВАК и 2 пулемета ШКАС, которые могли отклоняться вниз для атаки целей с горизонтального полета. Машина прошла испытания, но серийно не строилась
Во второй половине июля 314-й РАП вывели для пополнения в Москву. Ведущий инженер НИИ ВВС А.Т.Степанец вспоминал, насколько негативной была оценка летного состава Як-4. "Как же Вы приняли на вооружение такой недоработанный самолет?" - возмущенно обступали меня пилоты и штурманы. Чувствую, еще немного - и побьют. Спасло меня то, что я успел объяснить: я ведущий инженер по испытаниям истребителей Яковлева, и никакого отношения к Як-4 не имею".
В конце месяца полк, наскоро приняв 18 Як-4, вернулся на Западный фронт. Параллельно с ним разведывательные задачи выполнял 410-й авиаполк пикирующих бомбардировщиков Пе-2, укомплектованный сотрудниками НИИ ВВС. Оба полка некоторое время базировались на одном аэродроме поблизости от штаба Западного фронта (чтобы сократить сроки доставки разведматериалов). Экипажи имели возможность сравнить обе машины. По общему мнению, "пешка" была менее уязвимой, поскольку имела крупнокалиберный пулемет УБТ в люковой установке. Як в случае атаки сзади-снизу оказывался беззащитен. Верхние стрелковые установки у обоих самолетов были одинаковыми. По максимальной скорости полета и радиусу действия Пе-2 и Як-4 являлись примерно равноценными. С точки зрения технического персонала, "пешка", несомненно, выигрывала. Впрочем, в условиях превосходства люфтваффе оба полка растаяли, как снег под лучами мартовского солнца. По состоянию на 10 августа в 314-м РАП вновь осталось всего 8 машин. Вскоре и они были потеряны.
Заметим, что, помимо трех указанных полков, имеются свидетельства о применении Як-2 и Як-4 в других авиационных частях. Достоверно известно, что 30 июня 9 Як-4, предназначавшихся для 314-го полка и в результате неразберихи застрявших на аэродроме Боровское, "реквизировал" командир 207-го даль-небомбардировочного полка подполковник Г.В.Титов. Накануне части 3-го авиакорпуса Дальней Авиации понесли тяжелые потери и пополнение оказалось весьма кстати. Продолжение дневных налетов бомбардировщиков корпуса без истребительного прикрытия приводило к закономерным результатам. Только за один день 30 июня немецкая истребительная эскадра JG51, действовавшая в районе Бобруйска, доложила об уничтожении 113 советских бомбардировщиков! Сколько среди них было Яков, а сколько - СБ и ДБ-ЗФ, выяснить невозможно, поскольку в немецких отчетах того периода все советские бомбардировщики пренебрежительно именовались "мартин-бомбер".
Таким образом, всего на Юго-Западном фронте нашли применение около сотни самолетов Як-2 и Як-4, а на Западном - еще около восьмидесяти. С учетом того, что часть машин из 201 построенной, несомненно, была потеряна в авариях еще до начала войны, а несколько использованы для опытно-конструкторских проработок (например, самолеты с двойным управлением, штур-мовик с комбинированной артиллерийско-бомбардировочной батареей КАББ-МВ и т.п.), то следует скептически отнестись к упоминаниям о применении двухмоторных Яков в 10-м, 44-м, 48-м, 53-м и 225-м авиаполках. Тем более, что найти подтверждение этим данным в архивах не удалось. Имеются, на наш взгляд, два исключения. В составе 24-го краснознаменного БАП вплоть до середины 1942 г. числился один Як-2, большую часть времени неисправный. По рассказам нескольких очевидцев, еще один Як-4 из 118-го ОРАП ВВС Северного флота летал вплоть до 1945 г. Судьба остальных уцелевших в мясорубке первых месяцев войны двухмоторных Яков оказалась более прозаичной. Не способные больше летать Як-2 некоторое время использовались на аэродроме Медвежьи Озера в качестве ложных целей..Несколько поврежденных самолетов, оставленных при отступлении, попали в руки противника.
Несколько слов в заключение
Попытаемся высказать свое мнение по двум вопросам, наиболее оживленно обсуждавшимся в отношении ближних бомбардировщиков Яковлева.
1. В чем причины неудачи Яковлева с его боевым первенцем?
Основных причин, по-видимому, четыре:
ошибка при формировании концепции самолета, повлекшая за собой слишком малые размеры машины, которые не позволили эффективно модернизировать ее;
отсутствие в ОКБ отработанной методики расчета системы охлаждения мощных моторов и ошибки при определении потребной производительности масло- и водорадиаторов, размеров соответствующих тоннелей;
"соглашательская" позиция руководства ОКБ при радикальном изменении компоновки фюзеляжа, что привело к потере устойчивости самолета из-за смещения центровки назад;
недостаточное внимание к машине в период организации серийного производства со стороны главного конструктора и неоправданное сужение полномочий ведущего инженера, не сумевшего устранить многочисленные дефекты.
2. Являлись ли ближние бомбардировщики Як-2 и Як-4 прообразами или аналогами знаменитого английского "Москито"?
Нет, и вот почему. Основными идеями, определявшими "философию" английского самолета, помимо высокой скорости (общая тенденция мирового военного самолетостроения в тот период) и многоцелевого назначения, были:
отсутствие оборонительного вооружения;
цельнодеревянная конструкция, примененная со стратегической целью - задействовать для производства самолетов в военное время мощности деревообрабатывающей промышленности Великобритании;
особая тактика применения, сводящая вероятность перехвата истребителями противника к минимуму.
Яки же несли оборонительные турели, их конструкция для советской авиапромышленности конца 30-х гг. была вполне традиционной (и даже упрощенной), а уж в отношении тактики… Словом, "Федот, да не тот". Вместе с тем, критика ББ-22 в последнее время неоправданно обострилась и перешла в обвинения его главного конструктора в карьеризме. На наш взгляд, довольно точно (с небольшими оговорками, но о них отдельный разговор) оценил боевой первенец Яковлева летчик-испытатель И.Шелест: "Значение ББ-22 оказалось в значительном импульсе, который он привнес с собой… Идеи, заложенные А.Яковлевым, дали стимул многим ведущим конструкторам страны к созданию новых скоростных машин. В результате появилась сначала "сотка" (Пе-2), потом "стотретья" (Ту-2). Эти самолеты имели скорость примерно такую же, какую удалось впервые получить на ББ-22, но были уже прекрасно вооружены пушками и крупнокалиберными пулеметами, имели бронезащиту, обладали необходимой дальностью и продолжительностью полета".

Продолжаем знакомиться с мнениями немецких командиров, обобщенными в книге генерала Швабедиссена, о действиях ВВС РККА в 1941 г.

Истребительная авиация
A. Общие рассуждения
Состояние советских истребительных частей было хорошо известно командирам Люфтваффе, поскольку они часто имели дело с ними. Есть множество докладов и рапортов по этому вопросу. Эти сообщения варьируются в зависимости от времени, места и условий, при которых состоялась встреча с истребителями, но по основным пунктам они сходятся. Так, все опрошенные командиры Люфтваффе сходятся во мнении, что советское командование уделяло особое внимание развитию истребительной авиации. Поэтому она значительно опережала в развитии остальные виды авиации русских ВВС не только по численности, но и в тактическом и техническом отношениях, и сыграла наиболее важную роль в борьбе с Люфтваффе. Личный состав для истребительной авиации специально отбирался и готовился, он представлял собой элиту советской авиации.
Несмотря на свое привилегированное положение и численное превосходство, советские истребители в 1941 г. не смогли бросить вызов господству немцев в воздухе. Напротив, осенью 1941 г. советская истребительная авиация понесла такие потери, что трудно было встретить авиачасти, представлявшие на тот момент серьезную угрозу.
Но, тем не менее, надежды немцев на то, что Люфтваффе сможет полностью пресечь активность советских истребителей на значительный промежуток времени не сбылись. Напротив, уже к концу 1941 г. советская истребительная авиация пережила самый тяжелый для себя этап и начала набирать силу. В этом разделе будет сделана попытка дать объяснение такому ходу событий.

Б. Организация, структура, численный состав и стратегическая концентрация.
Нам доступно только небольшое количество высказываний немецких командиров насчет организации советской истребительной авиации. Имеющаяся информация подтверждает взгляды верховного командования Люфтваффе, согласно которым истребители были сведены в полки и дивизии, хотя некоторые офицеры приходят к заключению, что организация ВВС была очень похожа на организацию Люфтваффе. Эти офицеры, похоже, не уловили фундаментального различия между немецкой и русской организационной структурами, которое заключалось в том, что, несмотря на кажущуюся похожесть этих двух организаций, советские ВВС, в отличие от немецкой авиации, подчинялись армии, а не главному командованию ВВС. Для непосредственных участников боевых действий это отличие имело небольшое значение. Гораздо важнее для них было то, как организована советская авиация для ведения боевых действий. Из-за быстрого продвижения немецких войск летом и осенью 1941 г. командный состав Люфтваффе уделял мало внимания таким предметам, а благодаря превосходству в воздухе, этот интерес был весьма условным.
Немецкие командиры подтверждают, что русские истребительные силы в основном концентрировались в прифронтовых районах. Полковник фон Бойст считает такое стратегическое расположение крайне неразумным. Размещенные вблизи фронта и без достаточной организации по глубине, советские истребители части были крайне уязвимы для немецких атак с воздуха и, к тому же, постоянно были открыты для наблюдения с немецкой стороны.

В. Действия истребителей
1) Летчики-истребители. В оценке поведения в бою советских летчиков-истребителей мнения немецких командиров расходятся, что объясняется их разным боевым опытом. Некоторые говорят о недостаточной агрессивности советских пилотов и считают, что даже при явном численном превосходстве их состояние духа в атаке и просто в бою было достаточно низким. Другие считают среднего советского летчика-истребителя самым серьезным оппонентом, которого они до сих пор встречали и описывают его как агрессивного и мужественного.
Это очевидное несоответствие мнений можно объяснить, вероятно, тем, что убежденные в своей слабости и находясь под влиянием внезапности нападения и поспешного и неорганизованного отступления своих войск, советские летчики вели, в основном, оборонительные бои, но вели их с отчаянием и готовностью к самопожертвованию. Характерными чертами среднего советского пилота были склонность к осторожности и пассивности вместо упорства и стойкости, грубая сила вместо тонкого расчета, безграничная ненависть и жестокость вместо честности и благородства. Эти качества можно объяснить менталитетом русского народа.
Если принять во внимание врожденную медлительность и недостаток инициативы у среднего русского пилота (и не только это), а также его склонность к коллективным действиям, привитым в процессе воспитания, то можно понять, почему у русских отсутствуют ярко выраженные качества индивидуального бойца.

2) Боевые действия советской истребительной авиации. Основываясь на мнениях командного состава Люфтваффе можно следующим образом описать общие принципы, на которых строились действия советской истребительной авиации:
а) В своем большинстве, все действия русских истребителей носили оборонительный характер. Это относится не только к операциям против немецких бомбардировщиков и пикировщиков, но и к операциям против немецких истребителей. Советское командование, видимо осознав в первые дни войны, что его ВВС слабее Люфтваффе не только в тактическом и техническом отношении, но и по уровню подготовки летного состава, издало довольно двусмысленную директиву, ограничивавшую активность истребителей только оборонительными действиями.
б) Главной задачей истребительной авиации были прямая или косвенная поддержка армейских подразделений. Однако прямая поддержка в виде штурмовых ударов, в которых самолеты использовались как истребители-бомбардировщики, в 1941 г. все еще играла второстепенную роль. Гораздо большее внимание уделялось заданиям косвенной поддержки посредством завоевания превосходства в воздухе над фронтовыми районами и сопровождения самолетов-штурмовиков и бомбардировщиков.
в) Советские истребители редко углублялись в немецкие тылы, а во время боя пытались оттянуть противника на свою территорию или уйти от атаки опять-таки на свою территорию.
г) С точки зрения численности, применяемой тактики и технического качества, истребительное прикрытие важных объектов в системе ПВО было недостаточным.
Все это неоднократно повторяется в сообщениях различных командиров Люфтваффе. Майор фон Коссарт, например, высказывает мнение, что оперативные доктрины и тактические соображения, или другими словами - советское командование - намеренно ограничивали активность истребительной авиации. Причины нужно искать не только в сокрушительных неудачах первых дней войны, но и том, что русская истребительная авиация все еще не отвечала требованиям наступательных боевых действий.
Майор Ралль развивает эту тему. Действия русских в воздухе превратились в бесконечные и бесполезные вылеты с очень большим численным перевесом, которые продолжались с раннего рассвета и до поздних сумерек. Не наблюдалось никаких признаков какай-то системы или концентрации усилий. Короче говоря, прослеживалось желание в любое время держать самолеты в воздухе «в постоянных патрульных миссиях над полем боя». В дополнение к этому над эпицентрами крупных наземных сражений, таких как оборона Киева, мостов около Кременчуга и Днепропетровска, и сражения в районе Татарского рва в Крыму, существовали зоны чисто оборонительных действий истребителей. Там истребители постоянно осуществляли патрулирование на высотах приблизительно от 1000 до 4500 м.
Русские не много сделали и для систематического развития авиационного прикрытия объектов в глубине своей территории, поскольку основная масса истребительной авиации использовалась в прифронтовых районах для действий над полем боя. Для ПВО оставались, как правило, лишь неподходящие и малочисленные силы. Из-за плохо развитой системы оповещения, в своих действиях русские почти целиком зависели от визуальных наблюдений. Поэтому нам было достаточно просто проникнуть достаточно глубоко на вражескую территорию и внезапно появиться над целью.
Поведение советских летчиков-истребителей в воздушных боях с немецкими истребителями, разведчиками и бомбардировщиками при защите наземных объектов или при патрулировании отражало фундаментальные концепции, описанные выше.

3) Бой с немецкими истребителями. Очень много воспоминаний о поведении советских летчиков-истребителей в воздухе, особенно в боях с немецкими истребителями. Можно привести наиболее важные из этих наблюдений.
Из опыта 54-й истребительной эскадры действовавшей на северном направлении под командованием майора Траутлофта следует, что советские истребители ограничивались в первую очередь оборонительными вылетами, действуя небольшими группами в различных секторах, не концентрируя сил в определенных районах или в определенное время. При угрозе атаки немецких истребителей советские летчики немедленно пытались организовать оборонительный круг, который было тяжело расколоть из-за прекрасной маневренности их самолетов. Как правило, они, поддерживая это построение, летели к своим позициям, где обычно сначала разворачивались на малой высоте над позициями своих зениток, а затем возвращались на базы, по-прежнему придерживаясь оборонительного круга. Тяжелые потери, нанесенные русским немецкими истребителями над их собственной территорией, серьезно повлияли на боевой дух летчиков-истребителей: почти 90 процентов сбитых советских самолетов были уничтожены над своей территорией. Если немецким истребителям удавалось расстроить оборонительный круг или захватить противника врасплох - первые же потери приводили к замешательству. В таких случаях большинство советских летчиков были беспомощны в воздушном бою, и немецкие пилоты легко сбивали их.
Из этого же источника мы узнаем, что во время наступления немцев в районе Ленинграда бои между истребителями были редки. Когда же они случались, советские летчики часто бывали застигнуты врасплох и проигрывали воздушные схватки. Если они обнаруживали намерение противника атаковать, они немедленно предпринимали попытки избежать боя и уйти. Однако в случае, когда их было больше, чем немцев, они обычно принимали бой.

Советские истребители обычно действовали малыми группами, тесно связанными в звенья (3 самолета) или пары. Однако к концу 1941 г. стали часто встречаться группы нестандартного построения - чаще из пяти самолетов. Они, обычно, состояли из новых самолетов-истребителей И-18 (МиГ-3) и И-26 (Як-1), поддерживали правильную дистанцию между отдельными самолетами - признак того, что русские пытались перенять немецкие методы ведения боя.
Из-за плохой скороподъемности советских самолетов, недостаточного боевого опыта и скромного летного навыка пилотов, немцам часто удавалось разбить круг и сбивать советских летчиков по одиночке. В целом, это относится не только к устаревшим типам советских самолетов, но также, хоть и в несколько меньшей степени, к более современным типам.
Большинство боев с советскими истребителями происходило на высотах от 1000 до 3000 м. Схватки на больших высотах случались редко; советские истребители избегали больших высот и обычно уходили пикированием.
В общем, советские летчики принимали бой тогда, когда имели численное превосходство. Однако даже в этом случае они почти всегда становились в оборонительный круг, который часто вырождался в карусель, если так можно выразиться. На этом этапе легче всего было отколоть отдельные самолеты от кружащейся группы и сбить их, поскольку остальные редко приходили на помощь отколовшимся самолетам.
Единственными подразделениями, пытавшимися предпринять агрессивные действия - например, маневрируя по вертикали, - были группы на И-16 или И-26 (Як-1). В этих случаях они разгонялись на пикировании, чтобы затем сблизиться с противником крутым набором высоты. Однако они открывали огонь со слишком большой дистанции.
В 1941 г. у русских еще не было системы управления истребителями по радио с земли. Кроме того, похоже, что в воздухе командир управлял своей группой посредством визуальных сигналов, поскольку радиообмена между самолетами тогда не наблюдалось. Из-за больших потерь советские истребители скоро прекратили вылеты звеньями по три и перешли к строю из четырех самолетов, причем группа летела в тесном строю, в котором не просматривалась какая-либо разумная организация. Группы советских истребителей можно было идентифицировать с большого расстояния, благодаря характерной неправильности строя. В тесном строю истребители обычно летели на разных высотах. Возвращение с задания осуществлялся таким же нерегулярным и постоянно колеблющимся строем, как и подход к цели.
Генерал-майор Юбе в дополнение к этим наблюдениям замечает, что в бою советские истребители часто игнорировали даже самые примитивные правила, «теряли головы» вскоре после начала схватки и дальше реагировали так неумно, что сбить их не составляло труда. Они предпочитали пикировать к самой земле и отрываться от противника над собственной территорией.

4) Действия против немецких бомбардировщиков. Все сообщения командиров немецких бомбардировочных подразделений подтверждают, что в 1941 г. советские истребители не представляли угрозы соединениям немецких бомбардировщиков. Фактически, советские истребители часто избегали боя с немецкими бомбардировщиками.
Майор фон Коссарт, командир звена, действовавшего на северном участке, сообщает, что люди в его подразделении никогда не считали советские истребители опасными для немецких бомбардировщиков, летящих в строю. По его мнению, причина была не в сокрушающих успехах немцев в первые дни войны или неадекватной подготовке советских летчиков-истребителей, а в оборонительной природе советских оперативных доктрин. Поскольку советская служба воздушного наблюдения и обнаружения была чрезвычайно примитивной и работала очень медленно, их истребители обычно атаковали бомбардировщики противника уже после того, как они сбрасывали бомбы, иногда даже на аэродромы этих истребителей.
У немецких экипажей сложилось мнение, что советские истребители имел приказ не допускать больших потерь при атаках. Единственным тактическим приемом, который часто применялся для нападения, была атака сверху сзади одним, несколько реже - несколькими самолетами одновременно.
В шестидесяти вылетах, в которых до 9 сентября 1941 г. участвовал фон Коссарт, его подразделение встречалось с советскими истребителями всего десять раз. Истребительное прикрытие у русских существовало в основном, над аэродромами и исключительно важными районами, такими как Ленинград, а также над крупными железнодорожными узлами, но не над путями советского отступления и еще реже - над районами, более удаленными от линии фронта.
В действиях советских летчиков-истребителей не хватало не только логики и упорства, но зачастую и необходимых летных навыков и точности огня. Эта ситуация отягощалась еще и тяжелыми потерями начального периода, что привело к использованию в воздушных боях большого числа совершенно неподготовленных летчиков. Будучи неспособными сбить немецкий самолет, они, в свою очередь, служили легкими мишенями для немецких истребителей, чем и объясняется быстрый рост числа побед немецких летчиков на Восточном фронте.

Обычно советские истребители ограничивались атаками поврежденных или отставших от строя бомбардировщиков, причем нечастые победы «покупались» ценой больших потерь с советской стороны.
Только осенью ситуация стала постепенно меняться в пользу советских истребителей. Из-за огромных потерь в начале войны истребители использовались все еще ограниченно, но теперь они стали представлять большую опасность для немецких бомбардировщиков, вынужденных лететь по одиночке или очень маленькими группами на малой высоте.
Полковник фон Райзен, командовавший бомбардировочной эскадрой на северном фронте, считает, что советские истребители - летчики и самолеты - представляли значительно меньшую опасность, чем, к примеру, французские или английские. Советские летчики не пытались приспособиться к немецкой практике крутого пикирования с высоты 4000-5000 м, сброса бомб и ухода на очень малой высоте. Как правило, когда обнаруживался немецкий налет, советские истребители со всех близлежащих аэродромов в данном районе взлетали, собирались на малой высоте над своими базами и ждали нападения. Несмотря на то, что такая тактика давала прекрасную возможность перехватывать одиночные Ju-88, истребители практически никогда не атаковали.
Фон Райзен сообщает, что сам несколько раз чуть не сталкивался с истребителями, пролетая через их строй, а они даже не открывали огня. Из двадцати самолетов, потерянных его частью в 1941 г., только три или четыре потери не имели объяснения, и это были единственные потери, которые можно приписать действиями советских истребителей. В остальных случаях причины были иными. Редко можно было увидеть советские истребители на больших высотах, а над захваченной немцами территорией они не появлялись вовсе. Они никогда не углублялись в немецкий тыл, чтобы нападать на бомбардировщики.
Майор Й. Йодике (J. Jodicke), командир эскадрильи бомбардировочной части, воевавшей на северном и центральном участках, сообщает о вылетах, в которых он участвовал. До осени 1941 г. его подразделение или не сталкивалось с советскими истребителями, или те просто не атаковали их. По его словам, действия советских перехватчиков впервые активизировались во время немецких атак на Ленинград и Москву. Одиночные немецкие самолеты упорно атаковывались, и многие из них были сбиты.
Атаки в тесном строю звеньев или эскадрилий, с целью сделать ответный огонь бортстрелков неэффективным, были несистематичными и вырождались в действия одиночных самолетов. Их упрямая решительность и безразличие к потерям приводили к тому, что они атаковали с невыгодных ракурсов и больших дистанций. Немецкие соединения бомбардировщиков редко подвергались атакам на подходе, над целью или при возвращении с задания. Даже во время налетов на цели в глубоком тылу, немецкие бомбардировщики встречали русские истребители только над целью.
Взгляды, изложенные выше, разделяют и дополняют другие командиры Люфтваффе. Общеизвестно, что советские летчики неохотно атаковали бомбардировщики, летящие строем, особенно если те имели истребительное прикрытие. Даже одиночные, отставшие от строя бомбардировщики, были в безопасности, если в этом районе находились немецкие истребители. Обычно советские истребительные части поднимали самолеты в воздух по тревоге, когда приближались немецкие бомбардировщики. На некотором удалении от аэродрома они набирали высоту, после чего часть из них пыталась отвлечь истребители сопровождения, в то время как другие пытались атаковать бомбардировщиков. Часто в бою советские летчики демонстрировали упорство и стойкость.

5) Действия против немецких пикирующих бомбардировщиков. Как и в случае с горизонтальными бомбардировщиками, офицеры немецких частей пикирующих бомбардировщиков приходят к заключению, что советские истребители не представляли для них серьезной угрозы. Записи в дневнике покойного капитана Пабста, который командовал эскадрильей в группе пикирующих бомбардировщиков на центральном и северном участках фронта, говорят, что с 22 июня по 10 августа 1941 г. он совершил около 100 вылетов и только пять раз встречался с советскими истребителями. Ни в одном из этих случаев серьезного боя не было.
Майор А. Блазиг (A. Blasig), в 1941 г. командовавший группой в штурмовой эскадре на северном участке фронта и в Финляндии, сообщает, что встречи пикирующих бомбардировщиков с советскими истребителями были скорее делом случая, а не закономерностью, и что во время бомбежек целей вблизи линии фронта советские истребители появлялись редко. Исключением являлся Мурманск, где пикирующие бомбардировщики встречались с организованным прикрытием многочисленных советских истребителей. На эти вылеты пикирующие бомбардировщики всегда сопровождали истребители, и ни разу советским летчикам не удалось прорваться к основным силам. Основная масса советских истребителей поджидала на высоте, на которой атакующие самолеты выходили из пике. Однако, при осуществлении атаки истребители не проявляли необходимого упорства, не подходили на оптимальную дистанцию, открывали огонь слишком рано, а затем быстро отворачивали. Большей частью они ограничивались действиями против самолетов, осуществлявших вылеты в одиночку, отколотых или отставших от строя.
По словам майора Блазига, советские истребители не проявляли упорства в преследовании противника. Так, однажды, когда он возвращался один с задания, он был атакован на малой высоте двумя истребителями. Сделав два захода, истребители прекратили преследование, несмотря на то, что пулемет стрелка-радиста заклинило.
Майор Ралль сообщает, что во время немецкого наступления в 1941 г. русским приходилось постоянно защищаться от налетов пикирующих бомбардировщиков, поэтому они приобрели определенный опыт в боях с ними. Во время постоянных рейдов немецкой авиации советские истребители ограничивались действиями в районе целей. Немецкие бомбардировщики редко подвергались атакам на подходе или при возвращении домой, но над полем боя интенсивность действий авиации была велика. В первые недели войны русские обычно использовали современные истребители (Як-1) на высотах подхода немецких бомбардировщиков, а более старые типы (И-153 и И-16) располагались на высоте выхода из атаки пикировщиков. Несмотря на тактику массового использования истребителей, советской стороне не удавалось предотвратить бомбежки с пикирования, особенно, когда атакующие самолеты сопровождали немецкие истребители.

6) Действия против разведывательных самолетов. Сообщения пилотов и наблюдателей тактической и стратегической разведывательной авиации показывают, что в целом действия советских истребителей против немецких разведывательных самолетов были неэффективными, и что серьезное противодействие встречалось только в жизненно важных районах, таких как Ленинград и Москва.
Майор Шлаге (H.E. Schlage) в 1941 г. служил наблюдателем в группе стратегической разведки на северном и центральном участке фронта. Он сообщает, что в начале кампании истребительное противодействие было практически незаметным даже в глубоком тылу прибалтийских районов. У советской стороны не было самолета, который можно было бы использовать против немецкого Ju-88, который, пересекая фронтовую зону, поднимался на 5500 - 6500 м. Кроме того, слабая подготовка и оснащение советской службы воздушного наблюдения и оповещения не позволяли вовремя поднимать истребители для перехвата приближающегося разведчика. Таким образом, до конца 1941 г. майор Шлаге двадцать один раз вылетал на стратегическую разведку глубоко в русский тыл и всего лишь один раз встретил советские истребители.

Майор Яане, летчик-наблюдатель в группе стратегических разведчиков на центральном участке фронта, сообщает, что в полетах над советской территорией немецким экипажам следовало ожидать атак дежурных советских истребителей парами или по одиночке на обратном пути. Немецкие разведчики обычно летели вдоль железных дорог, и складывалось впечатление, что советская служба ВНОС быстро сообщала об их приближении, поскольку, когда они приближались к назначенному аэродрому, советские истребители были уже в воздухе или на взлете. Особенно сильным было истребительное противодействие вокруг Москвы, где, очевидно, у русских была наилучшая система оповещения.
Капитан фон Решке, служивший на южном участке фронта офицером связи в эскадрилье тактической разведки, в дополнение к вышесказанному сообщает, что на высотах выше 4000 м русские истребители не встречались, и что самолеты «Рата» (И-16), обычно использовавшиеся при сопровождении своих бомбардировщиков, не атаковали одиночные немецкие самолеты, осуществлявшие тактическую разведку, даже когда обнаруживали их на близком расстоянии.

7) Действия ночью. До конца 1941 г. советские истребители очень редко действовали по ночам и по словам полковника фон Бойста не было сообщений о сбитых советских ночных истребителях. Майор Яане дает еще более резкую оценку, утверждая, что до конца 1941 г. о действиях советских ночных истребителей ничего не было известно.
Из всех опрошенных немецких офицеров только один лично подвергся атаке советских ночных истребителей. Он так описывает этот случай . Во время налета на аэродром Риги очень светлой ночью экипаж с удивлением увидел зеленые трассеры, пролетающие мимо, после чего последовали звуки снарядов, бьющих по их самолету. Атакующий самолет, в котором узнали «Рату» (И-16), исчез после первого захода. Члены экипажа могли предполагать, что они явились жертвами галлюцинации, если бы последующий осмотр самолета не доказал реальность происшедшего.

8) Взаимодействие с другими родами ВВС. Взаимодействие советских истребителей с бомбардировщиками, пикирующими бомбардировщиками и истребителями-бомбардировщиками при сопровождении и во время других заданий по прикрытию оказалось неадекватным поставленным задачам. Генерал-майор Юбе, например, сообщает, что при вылетах на прямое или косвенное прикрытие (последние представляли собой расчистку воздушного пространства впереди прикрываемой группы) группы советских истребителей оставались в том же районе, что и прикрываемые самолеты, но не поддерживали реального контакта с ними и часто их бросали. В сообщении летчиков 54-й истребительной эскадры также содержится вывод, что если при вылете на сопровождение советские истребители бывали атакованы немецкими, они часто бросали сопровождаемую группу и пытались дотянуть до своей территории в оборонительном кругу.

Капитан фон Решке сообщает, что советские истребители «Рата» (И-16) взаимодействовали со штурмовиками, начиная с первых дней кампании, а с бомбардировщиками - крайне редко. Истребителям И-15 при выполнении ими заданий по штурмовке придавался эскорт из И-16, который часто наносил еще и удары по наземным целям. А соединения бомбардировщиков в сопровождении И-16 довелось увидеть только через четыре недели боев. Как правило, истребители летели на 500 м выше сопровождаемого соединения группами по 15-25 самолетов. Если немецкие истребители атаковали бомбардировщиков, советские истребители редко пикировали, чтобы завязать бой, и польза от их сопровождения была невелика. Очень часто наблюдалось, что истребители сопровождения вели себя негибко, упрямо придерживаясь назначенного задания.

Все вышеприведенные утверждения вскрывают следующие недостатки в действиях советских истребителей во время сопровождения других видов авиации, на патрулировании или при перехвате самолетов противника:
1) действия советских истребителей были недостаточно гибкими, чтобы справиться с трудностями, характерными для заданий по сопровождению;
2) техническая отсталость самолетного парка истребительной авиации не позволяла ей эффективно действовать против атакующих немецких истребителей;
3) хорошо организованные атаки немецких истребителей наносили значительный урон советским истребителям, как и охраняемым ими бомбардировщикам и штурмовикам.
9. Истребители-бомбардировщики (прямая поддержка наземных войск). Воздействие штурмовых ударов советских истребителей ощущалось армейским командным составом сильнее, чем офицерами Люфтваффе. По сообщениям армейских офицеров в начальной фазе кампании советские истребители появлялись редко, но в последующие месяцы активность их все более возрастала, особенно в локальных зонах боев. Но в 1941 г. их воздействие на наземные войска все еще было невелико.

Так, подполковник Ф. Вольф (F. Wolf), командир артиллерийского батальона на центральном участке фронта, сообщает, что на ранних этапах он не видел советских истребителей, а первые истребители «Рата» (И-16), обычно группами по 2-3 самолета, появились во время операции по форсированию Днепра 10-11 июля. Помимо повторяющихся ударов по колоннам на марше, вызывавших многочисленные задержки, следующие воздушные удары одиночных истребителей-бомбардировщиков имели место в середине августа и в середине сентября, а последний налет зарегистрирован 30 ноября. Потери, вызванные этими атаками, были невелики.

В 1941 г., командуя артиллерийской частью на центральном участке, генерал-лейтенант Хуффман лично не имел дела с советскими истребителями. Однако, из отчетов пяти армейских командиров со всех участков восточного фронта, предоставленных им, можно понять, что действия советских истребителей в качестве штурмовиков или истребителей над полем поя не оказывало реального влияния на продвижение немецких войск. Кстати он замечает, что генерал-полковник Гейнц Гудериан (Вторая Танковая группа) лишь дважды упоминает советские истребители в 1941 г., что по его (Хуффмана) мнению является признаком того, что советская истребительная авиация не произвела впечатления ни на немецкие войска, ни на немецкое командование.

10. Действия в особых погодных условиях. Немецкие командиры не имеют единого мнения в отношении действий советских истребителей в плохую погоду. В то время, как одни из них утверждают, что советские истребители могли продолжать боевые действия в плохую погоду, другие отрицают это. Возможно причина этого расхождения в том, что всепогодная авиация - результат тренировок, а степень подготовленности истребителей сильно варьировалась в советских ВВС от соединения к соединению. Однако, все немецкие офицеры согласны с мнением, что русские справлялись с трудностями погоды лучше, чем от них это ожидали.
В то время как майор Яане считает, что советские летчики не пылали энтузиазмом к полетам в плохую погоду, - что он считает вполне нормальным, исходя из несовершенства их авиатехники, - и поэтому облачная погода обеспечивала хорошее прикрытие для разведывательных полетов, майоры Ралль и Блазиг высказывают мнение, что технические характеристики советских самолетов позволяли русским выполнять боевые задания над полем боя, когда погодные условия делали полеты немецких истребителей практически невозможными 17 .
Опыт JG54 показывает, что советские истребители действовали, когда небо было полностью закрыто облаками, и что они умело прятались в нижней части облаков, выскакивая для внезапных атак. Необходимо было иметь определенный опыт и вырабатывать особую осторожность для полетов в такую погоду.
Эту линию продолжает полковник фон Бойст, утверждая, что установившаяся осенью 1941 г. плохая погода и еще более трудные зимние условия - снег, лед, сильные холода, плохая видимость и туманы - давали советским истребителям определенные преимущества. Они были знакомы с такими условиями и лучше приспосабливались к ним, - это относится как к авиации, так и к наземным службам.

Ралль приходит к подобным же заключениям. С определенным удивлением он обнаруживает, что советские истребители были чрезвычайно активны над полем боя даже в сильнейшие холода, когда немецкие истребительные подразделения были поставлены перед проблемой попытаться просто запустить моторы. Нет сомнения, что советская сторона имела больший технический опыт запуска моторов самолетов в сильный мороз, и вскоре она обнаружила эту слабую сторону немецких истребителей. Поэтому отнюдь не редки были случаи, когда советские истребители-бомбардировщики атаковали немецкий аэродром в 9.00, тогда как немецкая группа с трудом могла подготовить два-три самолета к 11часам утра.
С марта 1932 г. в соответствии со стратегическим и оперативно-тактическим назначением ВВС РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии) разделились на войсковую, армейскую и фронтовую авиацию. В ноябре 1940 г. отдельно выделилась авиация Главного Командования, или дальняя бомбардировочная авиация (ДБА).
Авиация Главного Командования предназначалась для проведения самостоятельных воздушных операций по нанесению бомбовых ударов по объектам в глубоком тылу противника и состояла из авиационных корпусов и отдельных дивизий. Ее наименования последовательно менялись с АГК на АДД (авиация дальнего действия) с марта 1942 г., а затем на 18-ю воздушную армию с декабря 1944 г. и до конца войны.
Войсковая авиация состояла из отдельных эскадрилий, по одной на каждый стрелковый, механизированный и кавалерийский корпус. На вооружении эскадрилий находились легкие самолеты, для разведки, связи и корректировки артиллерийского огня. Вероятно, в начале войны эскадрильи были выведены из состава корпусов, но с апреля 1943 г. стали появляться вновь, когда в состав механизированного корпуса было включено авиационное звено связи - 3 самолета. Авиационный полк связи (на самолетах По-2) с конца января 1943 г. входил в состав танковой армии, иногда, правда, это был не полк, а авиаэскадрилья.
Армейская авиация состояла из отдельных смешанных авиационных соединений (авиадивизий), входивших в общевойсковые армии, как правило, по одному авиасоединению на армию.
В мае 1942 г. с образованием воздушных армий, объединивших ВВС фронтов и ВВС армий, в общевойсковой армии остался один смешанный авиаполк. В ноябре того же года он был заменен авиаполком легких самолетов для воздушной разведки и связи. В первой половине 1943 г. смешанный авиаполк был заменен эскадрильей связи в составе 12 самолетов По-2.
Фронтовая авиация входила в военные округа, состояла из частей и соединений различных родов авиации и действовала в соответствии с планами округа (фронта). Существовала до ноября 1942 г.
Самолетами располагали также учебные заведения ВВС, ВМФ, ГВФ, аэроклубы Осоавиахима, НКВД и пограничные войска.
В соответствии с задачами, летно-тактическими данными и вооружением военная авиация подразделялась на истребительную, бомбардировочную, штурмовую и разведывательную. К началу войны бомбардировочная авиация была представлена ближней (фронтовой) и дальней бомбардировочной авиацией.
С октября 1941 г., с появлением ночных легкобомбардировочных полков, фронтовая бомбардировочная авиация стала подразделяться на дневную и ночную.
Звено . Первичное подразделение ВВС РККА. Для всех родов военной авиации в состав звена входило три самолета, но в сентябре-ноябре 1942 г. в истребительной авиации перешли к звену из двух пар, т. е. четырех самолетов. К концу 1943 г. четырех-самолетное звено было введено и в штурмовой авиации.
Авиаотряд . Основное тактическое подразделение отечественной авиации до 1922 г. Количество самолетов s отряде различалось и зависело от рода авиации. С 16 сентября 1924 г. отряд истребительной авиации состоял из трех звеньев (9 самолетов), разведывательной легкобомбардировочной из двух звеньев (6 самолетов). В отряде тяжелых бомбардировщиков имелось 3 самолета. В мае 1925 г. в штат стрелковых корпусов были введены авиационные отряды по 6, 8 и 12 самолетов, предназначавшихся для ближней разведки и обслуживания артиллерии. С переходом на полковую организацию авиационные отряды сохранились в военно-транспортной авиации и авиации ВМФ.
Эскадрилья. С 16 сентября 1924 г. эскадрилья состояла из двух или трех отрядов. Истребительная эскадрилья - из трех отрядов по три звена в каждом. Всего в эскадрильи имелось 46 самолетов, из них 12 запасных.
Легкобомбардировочная и разведывательная эскадрильи включали по три отряда из двух звеньев и насчитывали 31 самолет, из них 12 запасных. Тяжелобомбардировочная эскадрилья состояла из двух отрядов по 3 самолета. Всего 6 самолетов.
В 1938 г. было принято решение об изменении структуры и численности самолетов эскадрилий.
Бомбардировочная авиационная эскадрилья состояла из четырех звеньев по 3 самолета (12 самолетов). Штурмовая эскадрилья - из трех боевых звеньев и одного резервного (12 самолетов). Истребительная эскадрилья насчитывала 15 самолетов и состояла из пяти звеньев.
Опыт войны и большие потери вызвали необходимость новых изменений. 10 августа 1941 г. приказом командующего ВВС эскадрильи в штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации определялись по 10 самолетов (три звена и самолет командира). Через десять дней, 20 августа, последовал новый приказ для подразделений, получавших самолеты новых типов «вроде Ил-2, Пе-2, Як-1 и т. д.». Эскадрилья при этом насчитывала 9 самолетов, т. е. три полных звена.
В середине 1943 г. в истребительной авиации вернулись к составу эскадрильи в 10 самолетов, двух звеньев и пары (командира и его ведомого).
В конце 1943 г. эскадрильи истребительной и штурмовой авиации перешли на трехзвенный состав и насчитывали 12 самолетов. Эскадрилья бомбардировочной авиации насчитывала 10 самолетов, три звена и самолет командира эскадрильи. Эскадрилья связи состояла из четырех звеньев из 12 самолетов.
Авиаполк . В СССР авиационные полки впервые были сформированы в 1938г. Статус авиаполка - воинская часть.
Ближнебомбардировочный полк состоял из пяти эскадрилий и двух самолетов в управлении полка (62 боевых самолета), дальнебомбардировочный полк состоял из трех-четырех эскадрилий и двух самолетов в управлении полка (38-42 боевых самолета). Истребительный полк включал четыре-пять эскадрилий и два самолета управления полка (63-77 боевых самолетов). Штурмовой авиаполк состоял из пяти эскадрилий и имел на вооружении 61 боевой, 5 тренировочных и 1 самолет связи.
В боях в июле-августе 1941г. наблюдались проблемы в управлении в полках и дивизиях большим количеством самолетов, а громоздкость этих частей и соединений затрудняло рассосредоточение самолетов на аэродромах и облегчала противнику их уничтожение на земле. 10-12 августа была принята новая организация ближнебомбардировочных, штурмовых и истребительных авиаполков.
Ближнебомбардировочный полк теперь стоял из трех эскадрилий смешанного состава - две бомбардировочные, одна истребительная эскадрилья и 2 бомбардировщика в управлении полка, всего 32 самолета.
Штурмовой авиаполк также смешанного состава насчитывал 33 самолета (две эскадрильи самолетов Ил-2, звено самолетов Су-2, одна эскадрилья истребителей). Истребительный полк должен был состоять из трех эскадрилий и двух самолетов управления полка, всего из 32 самолетов.
В связи с большими потерями и трудностями восполнения самолетного парка, особенно самолетами новых типов, организация была вновь пересмотрена. С 20 августа 1941 г. авиационные полки, на вооружение которых поступали самолеты новых типов (Пе-2, Ил-2, Як-1 и т. д.), а позднее и большинство других полков, стали формироваться однородными, состоящими из двух эскадрилий и двух самолетов в управлении полка, всего 20 самолетов.
К весне 1943 г. многие авиационные полки состояли из трех эскадрилий. Истребительный авиаполк состоял из трех эскадрилий по 9 самолетов и 4-5 самолетов в управлении полка, всего из 31-32 самолетов.
В середине 1943 г. в истребительном полку насчитывалось 34 самолета в составе трех эскадрилий по 10 истребителей и по 4 самолета в управлении полка.
В конце 1943 г. бомбардировочные полки состояли из трех эскадрилий и двух самолетов в управлении полка (32 боевых самолета). Штурмовой авиаполк состоял из трех эскадрилий и четырех самолетов в управлении полка (40 боевых самолетов), истребительный авиаполк - из трех эскадрилий и 4 самолетов в управлении полка (40 боевых самолетов). Кроме того, в каждом авиаполку имелся 1 самолет связи и 1 самолет с двойным управлением (там, где была необходимость в таком самолете). В авиации ВМФ смешанные авиаполки встречались и в 1942, и 1943 г.
Авиабригада . Основное тактическое подразделение ВВС РККА до 1938-1940 гг. Первые авиабригады стали формироваться в 1927 г. и состояли из трех-четырех эскадрилий. Существовали бомбардировочные, штурмовые, истребительные авиабригады. Упраздненные в 1938-1940 гг. в связи с переходом на полковую организацию, они остались в составе ВМФ и учебных подразделениях. Авиабригады ВМФ состояли из двух авиаполков.
Авиагруппа . Временное формирование под единым командованием. 21 июля 1941 г. началось создание штатных резервных авиационных групп (РАГ), которые находились в подчинении Ставки Верховного Главнокомандования и предназначались для решения самостоятельных задач и для помощи ВВС фронтов. В авиагруппу входили от четырех до пяти авиаполков (60-100 самолетов).
Осенью 1941 г. создавались временные (не штатные) авиационные резервные группы из частей фронтовой авиации и вновь формируемых авиаполков. С марта по мaй 1942 года были созданы десять ударных авиационных групп (УАГ) смешанного состава от трех до восьми авиаполков, в том числе и тяжелобомбардировочных.
Авиагруппы действовали до начала июня 1942 г. и позднее ее как подразделения гидроавиации ВМФ и транспортной авиации.
Авиадивизия . Первые были образованы во второй половине 1940г., командование ВВС старалось учесть «чужой» опыт Второй Мировой войны в Европе и «своей» войны с Финляндией. Дивизия стала основным тактическим соединением ВВС РККА. Как правило, авиадивизия состояла трех-четырех полков, в некоторых пяти-шести авиаполков и насчитывала до 350 самолетов. Существовали однородные (бомбардировочные, истребительные) и смешанные (истребительно-штурмовые и истребительно бомбардировочные) авиадивизии время войны, примерно до 1943 года встречались смешанные дивизии состоявшие из штурмовых и бомбардировочных полков. В июле 1941 было признано целесообразным постепенно перейти к организации двухполкового состава, но вместе с тем встречались авиадивизии из трех, четырех и пяти авиаполков.
В мае-июне 1942 г. были созданы штурмовые авиадивизии, состоявшие из двух - четырех штурмовых авиаполков (численностью до 80 самолетов), и ночные ближнебомбардировочные авиадивизии. В конце 1943 г. большинство авиадивизий перешли на трехполковой состав (от 100 до 120 самолетов).
Авиакорпус . Формирование авиационных корпусов началось в СССР еще в 1933 г., когда объединением двух-четырех бригад дальнебомбардировочной авиации получали корпуса ДБА. В ноябре 1940 г. в составе корпусов ДБА находилось две авиадивизии. В начале Великой Отечественной войны в каждом корпусе ДБА было сформировано по одной истребительной авиадивизии дальнего сопровождения. В июне-августе 1941 г. корпуса ДБА были расформированы, а 30 апреля 1943 г. организованы вновь. В их составе находились две авиадивизии. В августе-сентябре 1942 г. началось формирование авиакорпусов резерва Верховного Главнокомандования. Создавались однородные и смешанные авиакорпуса двух и более дивизионного состава. В корпусе насчитывалось от 120 до 270 самолетов. Смешанные авиакорпуса включали две истребительные и одну штурмовую или бомбардировочные авиадивизии. В дальнейшем от организации смешанных авиакорпусов отказались, а часть уже имевшихся была переведена в однородные. В 1941 г. началось формирование истребительных авиационных корпусов ПВО, состоявших из двух-трех истребительных авиадивизий.
Армия . В январе 1936 г. на основе авиационных бригад тяжелых бомбардировщиков, дислоцировавшихся в европейской части СССР, была создана авиационная армия особого назначения (АОН-1). 15 марта 1937 г. На Дальнем Востоке была сформирована АОН-2. Позднее в Северокавказском военном округе образована АОН-3.Вначале штатная структура и состав АОН были неодинаковыми. Только апреля 1937 г. была установлена единая организация, которая включала две тяжелобомбардировочные одну, легкобомбардировочную и одну истребительную авиабригады.
Подчинялись АОН непосредственно Главному Командованию. 5 ноября 1940 г., вскоре после войны Финляндией, АОН были упразднена как не оправдавшие себя в боевой обстановке.
5 мая 1942 г. приказом НКО СССР была создана 1-я воздушная армия объединившая армейскую и фронтовую авиацию Западного фронта, армия включала в себя две истребительные авиадивизии (по четыре истребительных авиаполка) две смешанные авиадивизии (каждая имела в составе два истребительных авиаполка, два штурмовых и один бомбардировочный авиаполк), учебно-тренировочный авиаполк, дальнеразведывательную авиаэскадрилью, эскадрильи связи и ночной ближнебомбардировочный авиаполк.
В течение 1942 г. были реорганизованы в воздушные армии все остальные ВВС действующих фронтов. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 и 17-я воздушные армии). В декабре 1944 г. подразделения АДД были сведены в воздушную армию, которая получила обозначение 18 ВА.
1 июля 1942 г. началось формирование двух истребительных и одной бомбардировочной авиационной армии. Предполагалось, что каждая будет включать три-пять авиадивизий и насчитывать по 200-300 самолетов. Практически была создана и приняла участие в боевых действиях только 1-я Истребительная авиационная армия.
Серьезные недостатки организационной структуры авиационной армии и практика боевых действий показали, что иметь в составе одного фронта воздушную и авиационную армии нецелесообразно. Выбор был сделан в пользу воздушной армии как высшей формы оперативного объединения. Вместо авиационных армий, резервных и ударных авиационных групп было решено создавать авиационные корпуса и отдельные авиационные дивизии РВГК (Резерва Верховного Главнокомандования).
15 (28) января 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а следовательно, и ее составной части - Рабоче-Крестьянского Красного Военно-Воздушного Флота (РККВФ).
24 мая 1918 г. Управление военно-воздушного флота было преобразовано в Главное управление Рабоче-Крестьянского Красного Военно-Воздушного Флота (Главвоздухофлот) во главе с Советом в составе начальника и двух комиссаров. Начальником Главвоздухофлота стал военный специалист М. А. Соловов, вскоре смененный А. С. Воротниковым, комиссарами - К. В. Акашев и А. В. Сергеев.
СОЛОВОВ Михаил Александрович
Начальник Главного управления РККВВФ (05-07.1918)
Российский, советский военный руководитель, инженер-механик (1913), полковник (1917). На военной службе с 1899 г. Окончил курсы Морского инженерного училища императора Николая I (1910).
Проходил службу в составе Морского ведомства в должностях: младшего инженер-механика (1902-1905), и.д. старшего судового механика минного крейсера «Абрек» (1905-1906), судовой механик яхты «Нева» (1906-1907).
С июня 1917 г. в штате Управления Военного Воздушного Флота: и.д. начальника 8-го (по заводскому хозяйству) отделения, с 11 октября -и.д. помощника начальника Управления по техническо-хозяйственной части. С марта 1918 г. в РККА. Начальник Главного управления РККВВФ (24.05-17.07.1918). С июля 1918 г. — начальник заготовительного отдела того же управления, позднее – в составе Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) Российской Республики.
Награды: ордена Св. Анны 3-й ст. (1909), Св. Станислава 2-й ст. (1912), Св. Анны (1914), Св. Владимира 4-й ст. (1915); медали «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913), « В память 200-летия Гангутской победы» (1915); иностранные ордена и медали.
ВОРОТНИКОВ Александр Степанович
Начальник Главного управления РККВВФ (07.1918-06.1919).
Российский (советский) военный руководитель, военный летчик, полковник (1917). На военной службе с сентября 1899 г. Окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище (1902, по 1-му разряду), Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота (1912). Проходил службу в 121-м пехотном Пензенском полку. Участник русско-японской войны (1904-1905): начальник «охотничьей команды» (08-09.1904), конной «охотничьей команды» (с 09.1904).
С января 1912 г. в составе Военного Воздушного Флота: начальник команды нижних чинов Офицерской школы авиации Отдела воздушного флота (02.1912-01.1913), офицер 7-й воздухоплавательной роты (01-04.1913), и.д. начальника 1-го отряда роты (04-06.1913), начальник 9-го корпусного авиаотряда (с 08.1913). Участвовал в организации дальних воздушных перелетов в России.
В период Первой мировой войны: командир корпусного авиаотряда (до 02.1915), 2-й авиационной роты (02.1915-10.1916), 2-го авиационного дивизиона (10.1916-01.1918), помощник инспектора авиации армий Западного фронта по технической части (02-03.1918), командир 3-го авиационного дивизиона (03-05.1918). Призван на службу в РККА. С 30 мая 1918 г. начальник авиации отрядов Завесы западной полосы, с 5 июля — начальник окружного управления РККВВФ Московского военного округа. Начальник Главного управления РККВВФ (17.07.1918-06.1919). Военный летчик при Главном управлении начальника снабжения РККВВФ (06-12.1919), технический инспектор Главного управления РККВВФ (12.1919-04.1920), помощник начальника Главного управления РККВВФ по организационно-строительной части (05-09.1920), помощник по авиации, главный технический инспектор Главного управления РККВВФ (09.1920-04.1921). С апреля 1921 г. начальник 1-й военной школы летчиков РККВВФ, с декабря 1923 г. — постоянный член тактической секции Научного комитета при Управлении ВВС РККА. Штатный преподаватель Высшей школы военной маскировки РККА (1924). В декабре 1924 г. уволен в запас РККА. В 1925-1926 гг. работал в Авиационном тресте при Главном управлении Гражданского воздушного флота.
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905), Св. Анны 4-й ст. (1905), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1906), 2-й ст. с мечами (1906), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1906), Георгиевское оружие (1915); золотые часы РВСР (1919).

Начальник Полевого управления авиации и воздухоплавания при Полевом штабе РВСР (22.09.1918 — 25.03.1920).
Советский военный руководитель, летчик. На военной службе с 1915 г. Окончил курсы авиационных мотористов и теоретические курсы летчиков при Петроградском политехническом институте (1915), Севастопольскую авиационную школу (1916), Военно-воздушную академию РККА (1926).
В годы Первой мировой войны: рядовой 171-го запасного пехотного батальона, затем 1-й авиационной роты (1915-1916), летчик 1-го корпусного, затем 7-го Сибирского авиаотрядов (1916-1917), старший унтер-офицер. Принимал участие в революционном движении в России. С августа 1917 г. выборный командир авиаотряда, с сентября 1917 г. член, затем председатель Исполнительного бюро Всероссийского совета авиации, с января 1918 г. член Всероссийской коллегии по управлению Воздушным Флотом Республики, специальный уполномоченный СНК РСФСР по эвакуации авиационной техники и имущества из Северной области.
Во время Гражданской войны в России: член Совета и комиссар Главного управления РККВВФ (05-08.1918), главный комиссар РККВВФ при штабе главнокомандующего армиями Восточного фронта и начальник авиации 5-й армии (08-09.1918), начальник Полевого управления авиации и воздухоплавания при Полевом штабе РВСР (09.1918-03.1920), начальник штаба Воздушного Флота (03.1920-02.1921), начальник Главного управления РККВВФ (09.1921-10.1922). Проявил незаурядные организаторские способности по становлению и строительству Красного Воздушного Флота, лично участвовал в боевых действиях на фронтах Гражданской войны.
С 1926 г. в резерве РККА с откомандированием в распоряжение Народного Комиссариата внешней и внутренней торговли. В 1926-1928 гг. работал военным атташе во Франции, с 1928 г. — в США, где возглавлял авиационный отдел советских торговых представительств (Амторг).
С марта 1933 г. начальник транспортной авиации СССР и заместитель начальника Главного управления Гражданского воздушного флота при Совнаркоме СССР. Трагически погиб в авиационной катастрофе (1933). Автор многочисленных статей и ряда научных трудов по истории авиации.
Награда: орден Красного Знамени (1928).
Структура Красного Воздушного Флота сложилась не сразу. В конечном итоге в качестве основной тактической и административно-хозяйственной единицы был принят авиационный отряд в составе 6 самолетов и 66 человек личного состава. Первые регулярные авиационные отряды были созданы в августе 1918 г. и направлены на Восточный фронт.
Советская республика, оказавшаяся в середине 1918 г. в огненном кольце фронтов, превращалась в военный лагерь. На фронты направлялись все имевшиеся в ее распоряжении вооруженные силы, в том числе Воздушный Флот. Сложившаяся обстановка потребовала создания органа, который объединил бы авиационные части в масштабе республики, организовал и возглавил их боевые действия. С этой целью 22 сентября 1918 г. при штабе РВСР было учреждено Полевое управление авиации и воздухоплавания действующей армии (Авиадарм). Оно совмещало в себе оперативные, административно-технические и инспекторские функции по отношению ко всем фронтовым частям и учреждениям Воздушного Флота, ведало их формированием, укомплектованием и боевым использованием, разработкой тактики и оперативного искусства Воздушного Флота, обобщением и распространением боевого опыта, политическим и воинским воспитанием авиаторов. Большое место в его работе принадлежало вопросам обеспечения авиаотрядов самолетами, горючим, продовольствием.
Начальником Полевого управления авиации и воздухоплавания на протяжении всего периода его существования являлся военный летчик А. В. Сергеев. Руководящие посты в управлении занимали А. Н. Лапчинский, А. А. Журавлев, С. Э. Столярский, В. С. Горшков. Авиадарм сыграл важную роль в мобилизации и эффективном использовании авиационных сил в борьбе с внутренней и внешней контрреволюцией. 25 марта 1920 г. на основе выводов комиссии под председательством члена РВСР К. X. Данишевского, изучавшей состояние и структуру центральных органов РККВФ, Реввоенсовет Республики преобразовал Полевое управление авиации и воздухоплавания в Штаб Воздушного Флота.
 АКАШЕВ Константин Васильевич
АКАШЕВ Константин Васильевич
Начальник Главного управления РККВВФ (03.1920-02.1921).
Советский военный руководитель, конструктор, военный летчик. Окончил Двинское реальное училище, летную школу при Итальянском аэроклубе (1911), высшее училище аэронавтики и механики (1914) и военную авиационную школу во Франции (1915). Профессиональный революционер. С лета 1909 г. в эмиграции.
В годы Первой мировой войны рядовой летчик-доброволец французской авиации (1914-1915). По возвращении в Россию: конструктор и летчик-испытатель на авиазаводе (г. Петроград), комиссар Михайловского артиллерийского училища (с 08.1917), член Бюро комиссаров авиации и воздухоплавания (с 11.1917).
В годы Гражданской войны в России: председатель Всероссийской коллегии по управлению Воздушным Флотом Республики (01-05.1918). Под его руководством осуществлен подбор кадров в состав РККВВФ, проведена большая работа по сохранению имущества и материальных ценностей авиационных частей. С мая 1918 г. - комиссар, с июля - военком Главного управления РККВВФ.
Оставаясь в прежней должности, с августа 1918 г. на фронтах Гражданской войны: командующий воздушным флотом 5-й армии Восточного фронта, начальник авиации и воздухоплавания Южного фронта. Возглавлял авиагруппу особого назначения, созданную для борьбы с белым конным корпусом, действовавшим в тылу войск Южного фронта Красной Армии (08-09.1919). Начальник Главного управления РККВВФ (03.1920-02.1921).
С весны 1921 г. в заграничной командировке по организации заказов и приемке самолетов и авиационного оборудования. Участник международных авиационных конференций в Лондоне и Риме, эксперт по Воздушному Флоту на международной Генуэзской конференции (1922). Торговый представитель СССР в Италии, позднее - на руководящих должностях в Авиатресте, на авиазаводах в Ленинграде и Москве, преподаватель Военно-Воздушной Академии РККА им. проф. Н.Е.Жуковского. Необоснованно репрессирован (1931). Реабилитирован (1956, посмертно).
Начальники РККВВФ, ВВС РККА, командующие ВВС КА
СЕРГЕЕВ (ПЕТРОВ) Андрей Васильевич
Начальник штаба Воздушного Флота (25.03.1920-02.1921).
Начальник Главного управления РККВВФ (09.1921-10.1922).
 ЗНАМЕНСКИЙ Андрей Александрович
ЗНАМЕНСКИЙ Андрей Александрович
Начальник Главного управления РККВВФ (10.1922-04.1923).
Советский военный и государственный деятель, дипломат. Учился в Томском технологическом институте (1906-1908), окончил юридический факультет Московского университета (1915). Принимал активное участие в революционной деятельности, дважды подвергался арестам. Член Московского комитета РСДРП(б) (02-10.1917), заместитель председателя РВК Благуше-Лефортовского района г. Москвы (11.1917). С декабря 1917 г. начальник 1-го коммунистического отряда Красной Гвардии Благуше-Лефортовского района, действовавшего против украинской Центральной рады и германских интервентов в Белоруссии.
В годы Гражданской войны в России: член Президиума Исполкома Моссовета и член МК РКП(б) (1918-06.1919), член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, член РВС 10-й армии Южного — Юго-Восточного — Кавказского фронта (07.1919-07.1920). С июня 1920 г. председатель исполкома Донского областного совета. С августа 1920 г. член Дальбюро ЦК РКП(б) и одновременно с ноября министр внутренних дел Дальневосточной народной республики. На руководящей работе в Моссовете (1921-04.1922).
С октября 1922 г. по апрель 1923 г. — начальник Главного управления РККВВФ. Один из инициаторов создания Общества друзей Воздушного Флота (ОДВФ) , член его президиума. Уполномоченный ЦК РКП(б) в Бухарской ССР, представитель СССР в Бухаре (09.1923-04.1925), уполномоченный НКИД СССР в Средней Азии (до 06.1928).
С мая 1929 г. вице-консул Генерального консульства СССР в Харбине, с мая 1930 г. — генеральный консул СССР в Мукдене (Шэньяне) (Китай). В 1941 г. без выдвижения официальных обвинений уволен со службы и зачислен в резерв Народного комиссариата иностранных дел СССР.
 РОЗЕНГОЛЬЦ Аркадий Павлович
РОЗЕНГОЛЬЦ Аркадий Павлович
Начальник и комиссар Главного управления РККВВФ (с 1924 — Управление ВВС РККА) (04.1923-12.1924).
Советский государственный и военный деятель. Окончил Киевский коммерческий институт (1914). На военной службе с 1918 г. До 1918 г. активный партработник (член РСДРПб) с 1905), участник революции (1905-1907), Февральской и Октябрьской революций (1917). Один из руководителей вооруженного восстания в Москве, член Московского ВРК.
В годы Гражданской войны в России: член Реввоенсовета Республики (09.1918-07.1919), одновременно политический комиссар 5-й армии Восточного фронта (08-11.1918), позднее член РВС этой армии (04-06.1919). С декабря 1918 г. член РВС 8-й армии Южного фронта (12.1918-03.1919), 7-й армии Северного (с 02.1919 — Западного) фронта (06-09.1919), 13-й армии Южного фронта (10-12.1919), Южного (08-12.1918) и Западного (05-06.1920) фронтов. В 1920 г. член Коллегии Наркомата путей сообщения РСФСР, в 1921-1923 гг. — Наркомата финансов РСФСР.
С конца 1922 г. занимался созданием и развитием Гражданского воздушного флота СССР, установлением деловых отношений с авиакомпаниями других стран. С апреля 1923 г. по декабрь 1924 г. член РВС СССР, начальник и комиссар Главного управления РККВВФ (с 1924 Управление ВВС РККА) и одновременно председатель Совета по Гражданской авиации СССР. Под его руководством был разработан, а затем утвержден РВС СССР план развития ВВС РККА на ближайшие три года. В 1925-1927 гг. на дипломатической работе в Англии. С 1927 г. член коллегии, заместитель наркома рабоче-крестьянской инспекции СССР (12.1928-10.1930). Заместитель наркома внешней и внутренней торговли СССР (10-11.1930), нарком внешней торговли СССР (с 11.1930). С февраля 1934 г. кандидат в члены ЦК ВКП(б).
В июне 1937 г. освобожден от занимаемой должности, в августе назначен начальником Управления государственных резервов при СНК СССР. Необоснованно репрессирован (1938). Реабилитирован (1988, посмертно).
Награды: орден Красного Знамени.
В соответствии с решением Советского правительства от 15 апреля 1924 г. Рабоче-Крестьянский Красный Воздушный Флот был переименован в Военно-Воздушные Силы РККА (ВВС РККА), а Главное управление Воздушного Флота - в Управление Военно-Воздушных Сил (УВВС), подчиненное Реввоенсовету СССР.
 БАРАНОВ Петр Ионович
БАРАНОВ Петр Ионович
Начальник ВВС РККА (10.12.1924-06.1931).
Советский военный деятель. На военной службе с 1915 г. Окончил Черняевские общеобразовательные курсы в Санкт-Петербурге. Профессиональный революционер. С марта 1917 г. председатель полкового комитета, с сентября — председатель фронтового отдела Румчерода (Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа), с декабря — председатель революционного комитета Румынского фронта.
В годы Гражданской войны в России: председатель ВРК 8-й армии (01-04.1918), командующий 4-й Донецкой армией (04-06.1918), начальник штаба Верховного главнокомандующего советскими войсками Юга России (06-09.1918), военком штаба 4-й армии (с 09.1918). В период 1919-1920 гг. проходил службу в должностях: члена РВС 8-й армии, Южной группы армий Восточного фронта, Туркестанского фронта, 1-й и 14-й армий.
В 1921 г. начальник политотдела Вооруженных Сил Украины и Крыма. В 1921-1922 гг. член РВС Туркестанского фронта и исполняющий обязанности командующего войсками Ферганской области, в 1923 г. начальник и комиссар броневых сил РККА. С августа 1923 г. -помощник начальника Главного управления Воздушного Флота по политчасти, с октября 1924 г. — заместитель начальника, с декабря — врид начальника, с марта 1925 г. — начальник ВВС РККА, одновременно в 1925-1931 гг. член РВС СССР.
При его активном участии осуществлялась перестройка ВВС в соответствии с военной реформой 1924-1925 гг., реализованы решения о мобилизации в ВВС командных кадров из других родов войск. С июня 1931 г. член Президиума ВСНХ СССР и начальник Всесоюзного авиационного объединения, с января 1932 г. заместитель наркома тяжелой промышленности и начальник Главного управления авиационной промышленности. Член ЦИК СССР.
Трагически погиб в авиационной катастрофе (1933).
Награды: ордена Ленина, Красного Знамени; Военный Красный орден Хорезмской народной советской республики; орден Красной Звезды 1-й степени Бухарской народной советской республики.
 Командарм 2-го ранга АЛКСНИС (АСТРОВ) Яков Иванович
Командарм 2-го ранга АЛКСНИС (АСТРОВ) Яков Иванович
Начальник ВВС РККА (06.1931-11.1937).
Советский военный деятель, командарм 2-го ранга (1936). На военной службе с марта 1917 г. Окончил Одесскую военную школу прапорщиков (1917), Военную академию РККА (1924), Качинскую военную авиационную школу (1929).
В годы Первой мировой войны: офицер 15-й Сибирского запасного полка, прапорщик. После Октябрьской революции (1917) работал в советских органах Латвии, г. Брянска.
В период Гражданской войны в России: военком Орловской губернии, комиссар 55-й стрелковой дивизии, помощник командующего войсками Орловского военного округа (весна 1920-08.1921). В период 1924-1926 гг. помощник начальника организационно-мобилизационного управления, начальник и комиссар отдела устройства войск Штаба РККА, начальник управления устройства войск Главного управления Красной армии. С августа 1926 г. заместитель начальника Управления ВВС, с июня 1931 г. — начальник ВВС РККА и член Реввоенсовета СССР, позднее — Военного совета НКО СССР. С января по ноябрь 1937 г. заместитель наркома обороны СССР по ВВС — начальник ВВС Красной армии.
Проделал большую работу по совершенствованию организационной структуры ВВС, оснащению их новой боевой техникой. Один из инициаторов развертывания деятельности ОСОАВИАХИМ а по подготовке летчиков и парашютистов.
Необоснованно репрессирован (1938). Реабилитирован (1956, посмертно).
Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды; иностранный орден.
 Генерал-полковник ЛОКТИОНОВ Александр Дмитриевич
Генерал-полковник ЛОКТИОНОВ Александр Дмитриевич
Начальник ВВС РККА (12.1937-11.1939).
Советский военачальник, генерал-полковник (1940). На военной службе с 1914 г. Окончил Ораниенбаумскую школу прапорщиков (1916), Высшие академические курсы (1923) и курсы усовершенствования высшего начсостава (1928).
В Первую мировую войну: командир роты, батальона, прапорщик. После Февральской революции (1917) член полкового комитета, затем помощник командира полка.
В годы Гражданской войны в России: командир батальона, полка, бригады. После войны помощник командира, командир и военком 2-й стрелковой дивизии (1923-11.1930), командир и комиссар 4-го стрелкового корпуса (11.1930-10.1933). В 1933 г. переведен в ВВС и назначен помощником командующего войсками Белорусского, затем Харьковского военных округов по авиации (10.1933-08.1937). В августе — декабре 1937 г. — командующий войсками Среднеазиатского военного округа. В декабре 1937 г. назначен начальником ВВС РККА (до 11.1939). В 1938 г. участвовал в организации беспосадочного перелета самолета «Родина» по маршруту Москва -Дальний Восток. С ноября 1939 г. по июль 1940 г. заместитель наркома обороны СССР по авиации. С июля по декабрь 1940 г. командующий войсками вновь созданного Прибалтийского (с августа -особого) военного округа.
Необоснованно репрессирован (1941). Реабилитирован (1955, посмертно).
Награды: 2 ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды; медаль «ХХ лет РККА».
 Генерал-лейтенант авиации СМУШКЕВИЧ Яков Владимирович
Генерал-лейтенант авиации СМУШКЕВИЧ Яков Владимирович
Начальник ВВС РККА (11.1939-08.1940).
Советский военный деятель, дважды Герой Советского Союза (21.6.1937, 17.11.1939), генерал-лейтенант авиации (1940). На военной службе с 1918 г. Окончил Качинскую военную школу летчиков (1931), курсы усовершенствования начсостава при Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1937).
В годы Гражданской войны в России: политрук роты, батальона, комиссар стрелкового полка. С 1922 г. в составе ВВС РККА: политрук эскадрильи и комиссар авиагруппы. С ноября 1931 г. командир и комиссар 201-й авиабригады.
С октября 1936 г. по июль 1937 г. принимал участие в национально-революционной войне испанского народа (1936-1939), старший военный советник по авиации при командовании республиканских войск, руководил организацией ПВО Мадрида и военных объектов в районе Гвадалахары. С июня 1937 г. заместитель начальника ВВС РККА, с сентября 1939 — и.д. командующего ВВС Киевского особого военного округа.
В мае — августе 1939 г. во время боевых действий с японскими войсками на р. Халхин-Гол (Монголия) командовал 1-й авиагруппой. Начальник ВВС РККА (19.11.1939-15.08.1940).
С августа 1940 г. — генерал-инспектор авиации Красной армии, с декабря 1940 г. -помощник начальника Генерального штаба РККА по авиации.
Необоснованно репрессирован (1941). Реабилитирован (1954, посмертно).
Награды: 2 ордена Ленина; 2 медали «Золотая Звезда»; медаль «XX лет РККА»; иностранный орден.
 Генерал-лейтенант авиации
Генерал-лейтенант авиации
Начальник Главного управления ВВС РККА (08.1940-04.1941).
Советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации (1940), Герой Советского Союза (31.12.1936).
На военной службе с 1928 г. Окончил 2-ю Военно-теоретическую школу летчиков им. ОСОАВИАХИМа СССР (1930), 2-ю военную школу летчиков в Борисоглебске (1931). Проходил службу в должностях: (3-я авиационная эскадрилья 5-й авиабригады Украинского ВО): младший летчик (11.1931-07.1932), командир звена (07.1932-1933), командир истребительной эскадрильи (1933-09.1936); командир 65-й истребительной эскадрильи 81-й авиабригады Украинского ВО (с 09.1936).
С ноября 1936 г. по февраль 1937 г. в должности командира звена участвовал в национально-революционной войне испанского народа (1936-1939), сбил 6 самолетов противника. По возвращении на родину с февраля 1937 г. зам. командира, с июля командир истребительной эскадрильи, с декабря — старший военный советник по использованию советских летчиков-добровольцев в Китае, там же командовал советской военной авиацией, участвовал в воздушных боях с японцами. С марта 1938 г. командующий ВВС Московского военного круга, с апреля — Приморской группы войск, ОКДВА, Дальневосточного фронта, с сентября — 1-й Отдельной Краснознаменной армии. Во время советско-финляндской войны (1939-1940) командующий ВВС 9-й армии.
С июня 1940 г. заместитель начальника ВВС РККА, с июля — первый заместитель, с августа -начальник Главного управления ВВС РККА, с февраля 1941 г. одновременно заместитель наркома обороны СССР по авиации. Находясь на высоких должностях в ВВС, настойчиво занимался вопросами улучшения качества самолетов, повышения профессионального мастерства летчиков, придавал большое значение строительству новых и реконструкции старых аэродромов. Был убежден, что в грядущей войне господство в воздухе будет завоевываться главным образом в ходе боев истребительной авиации над линией фронта.
В апреле 1941 г. снят с занимаемых постов и зачислен на учебу в Академию Генерального штаба. Необоснованно репрессирован (1941). Реабилитирован (1954, посмертно).
Награды: 2 ордена Ленина (дважды 1936), медаль «Золотая Звезда», 3 ордена Красного Знамени (1936, 1938, 1940); медаль «XX лет РККА» (1938).
 Главный маршал авиации ЖИГАРЕВ Павел Федорович
Главный маршал авиации ЖИГАРЕВ Павел Федорович
Командующий ВВС КА (06.1941-04.1942).
Главнокомандующий ВВС (09-1949-01.1957).
Советский военный деятель, главный маршал авиации (1955). На военной службе с 1919 г. Окончил 4-ю Тверскую кавалерийскую школу (1922), Ленинградскую военную школу летчиков-наблюдателей (1927), Военно-воздушную академию РККА им. проф. Н.Е.Жуковского (1932), адъюнктуру при ней (1933), Качинскую военную авиационную школу (1934).
В годы Гражданской войны в России служил в запасном кавалерийском полку в Твери (1919-1920). После войны последовательно занимал должности: командира кавалерийского взвода, летчика-наблюдателя, инструктора и преподавателя школы летчиков, начальника штаба Качинской военной авиационной школы (1933-1934). В 1934-1936 гг. командовал авиационными частями, от отдельной эскадрильи до авиабригады.
В 1937-1938 гг. находился в командировке в Китае, возглавляя группу советских летчиков-добровольцев. С сентября 1938 г. начальник управления боевой подготовки ВВС РККА, с января 1939 г. -командующий ВВС 2-й Отдельной Дальневосточной Краснознаменной армии, с декабря 1940 г. первый заместитель, с апреля 1941 г. — начальник Главного управления ВВС Красной армии.
В годы Великой Отечественной войны: командующий Военно-воздушными силами Красной армии (с 29.06.1941). Выступил инициатором создания мобильных авиационных резервов ГК в начале войны, принимал непосредственное участие в планировании и руководстве боевыми действиями советской авиации в битве под Москвой (12.1941-04.1942). С апреля 1942 г. командующий ВВС Дальневосточного фронта.
В период советско-японской войны (1945) командующий 10-й воздушной армией 2-го Дальневосточного фронта. Первый заместитель главнокомандующего ВВС (04.1946-1948), командующий дальней авиацией — заместитель главнокомандующего ВВС (1948-08.1949).
С сентября 1949 г. по январь 1957 г. — главнокомандующий ВВС, с апреля 1953 г. одновременно заместитель (с марта 1955 — первый заместитель) Министра обороны СССР. Начальник Главного управления Гражданского воздушного флота. (01.1957-11.1959), начальник Военной командной академии ПВО (11.1959-1963).
Награды: 2 ордена Ленина, 3 ордена Красного Знамени, ордена Кутузова 1-й ст., Красной Звезды; медали СССР.
 Главный маршал авиации НОВИКОВ Александр Александрович
Главный маршал авиации НОВИКОВ Александр Александрович
Командующий ВВС КА (04.1942-04.1946).
Советский военный деятель, полководец, дважды Герой Советского Союза (17.04.1945, 8.09.1945), главный маршал авиации (1944). На военной службе с 1919 г. Окончил Нижегородские пехотные командные курсы (1920), курсы «Выстрел» (1922) и Военную академию РККА им. М.В.Фрунзе (1930).
В годы Гражданской войны прошел путь от красноармейца до помощника начальника разведки дивизии. После войны последовательно занимал должности: командира роты (1922-1923), батальона (1923-1927), начальника оперативного отдела штаба стрелкового корпуса (1930-02.1931). С февраля 1931 г. в составе ВВС РККА: начальник штаба авиабригады, с октября 1935 г. — командир 42-й легкобомбардировочной эскадрильи, с 1938 г. — начальник штаба ВВС Ленинградского военного округа. Участник советско-финляндской войны (1939-1940): начальник штаба ВВС Северо-Западного фронта. С июля 1940 г. командующий ВВС Ленинградского военного округа.
В годы Великой Отечественной войны: командующий ВВС Северного, с августа 1941 г. — Ленинградского фронтов и заместитель главнокомандующего войсками Северо-Западного направления по авиации. С февраля 1942 г. первый заместитель командующего ВВС Красной армии, с апреля — командующий Военно-воздушными силами — заместитель (до мая 1943 г.) Наркома обороны СССР по авиации. Как представитель Ставки ВГК координировал боевые действия авиации нескольких фронтов в битвах под Сталинградом и на Курской дуге, в операциях по освобождению Северного Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Польши, при штурме Кенигсберга, в Берлинской операции и при разгроме японской Квантунской армии.
Внес много нового в теорию и практику применения авиации. В апреле 1946 г. подвергся необоснованному аресту и был осужден к 5 годам лишения свободы. В 1953 г. реабилитирован, уголовное дело в отношении его за отсутствием состава преступления прекращено, ему восстановлено воинское звание и возвращены все награды.
С июня 1953 г. командующий Дальней авиацией, одновременно заместитель главнокомандующего ВВС (12.1954-03.1955). С марта 1955 г. по январь 1956 г. в распоряжении Министра обороны СССР. С увольнением в запас (1956) начальник Высшего авиационного училища ГВФ в Ленинграде, одновременно возглавлял кафедру, профессор (1958).
Награды: 3 ордена Ленина, 2 медали «Золотая Звезда», 3 ордена Красного Знамени, 3 ордена Суворова 1-й степени, орден Кутузова 1-й ст., орден Трудового Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды; медали СССР; иностранные ордена и медали.